*Техническая расшифровка эфира
Сергей Егоров: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Угол зрения» на радио СОЛЬ, у микрофона Сергей Егоров. «Диплом есть, работы нет: в России растет число безработных с высшим образованием» — так звучит тема сегодняшнего эфира. Дело в том, что глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что «Доля безработных, получивших высшее образование, за 2015 год выросла на 19,6%. Такие данные привела в среду, 15 февраля, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК. „Это очень существенный показатель. Нам нужно серьезно оценить, кого и к чему мы готовим“, — сказала Голикова, выступая в РЭУ им. Г.В. Плеханова». По словам Голиковой, есть для этого объективные причины. Например, изменения, которые произошли в России в сфере образования, в частности, начатая оптимизация вузов, которую затеял бывший министр образования Дмитрий Ливанов, в результате чего число вузов в стране сократилось с 2300 до 1500.
Сегодня мы с нашими экспертами обсудим сложившуюся обстановку, действительно ли все так плохо, какие специалисты больше всего нуждаются в работе, имея при этом высшее образование. И узнаем, как обстоят дела в вузах, возьмем комментарии у представителей различных региональных вузов, которые расскажут, как у них по факту обстоят дела.
Первым собеседником сегодня в эфире радио СОЛЬ станет Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. Мария, здравствуйте!
Мария Игнатова: Добрый день!
С.Е.: Статистика, озвученная Татьяной Голиковой, что доля безработных, получивших высшее образование, за 2015 год выросла на 19,6%. Это так?
М.И.: Насколько достоверны цифры в 20%, я не смогу ответить со 100% уверенностью. Конечно, трудности с поиском работы наблюдаются сейчас у всех соискателей, которые сейчас есть у нас на рынке. Например, если раньше в Москве средняя конкуренция на одну позицию составляла где-то 5−6 человек, то есть человек, устраиваясь на работу, примерно понимал, что у него 5 конкурентов на эту должность, то сейчас эта цифра выросла практически вдвое, до 9 человек. Последние полгода она достаточно стабильная, не растет, не меняется. Поэтому, конечно, есть трудности. Что касается именно образования, то я бы сказала немного по-другому, не стала бы рассматривать это исключительно в разрезе высшего образования, наличия его или отсутствия, потому что сейчас для работодателя как таковое требование к высшему образованию не настолько критично, как это было еще 5 лет назад. Это не говорит о том, что не нужно его получать. Скорее, это говорит о том, что сейчас рынок немного трансформировался, очень много новых позиций на рынке появляется, для которых еще даже нет кафедр, нет вузов. Например, очень популярное направление диджитал-маркетинга, цифрового маркетинга. Но сейчас нет у нас вузов, которые готовят именно этих специалистов. Зачастую это специалисты, которые сами себя каким-то образом обучили. Иногда у них не бывает даже высшего образования, а есть какое-то другое. Поэтому тут стоит говорить не в контексте высшего либо среднего образования, а в контексте навыков, которыми владеют кандидаты. Работодатели тоже подтверждают, что когда нанимают людей, они, в первую очередь, смотрят на навыки, которыми владеет человек, и на опыт. А сам факт наличия высшего образования — попадает, наверное, в список 5 самых популярных требований, но точно не на 1 месте.
С.Е.: Но, тем не менее, Счетная палата и правительство ориентируется именно на показатели именно на людей с высшим образованием. Может быт, для работодателя диплом — это не настолько критичное требование, то для правительства, возможно, для своих целей показатель наличия высшего образования — это нечто важное. Поэтому, наверное, упускать из виду это нельзя.
М.И.: Конечно, упускать не стоит, потому что это показатель, характеризующий в принципе развитие страны как таковой. Но если вернуться к вопросу трудоустройства людей, то мы наблюдаем трудности. Например, специалисты, которые закончили гуманитарные вузы, экономисты, юристы, бухгалтера — у таких специалистов, конечно, есть трудности. Их достаточно много сейчас свободных на рынке. Их просто больше, чем нужно рынку. У нас есть некоторое смещение, небольшой перекос. Понятное дело, что в каждой компании всегда будет юрист, будет хотя бы один бухгалтер, полностью как профессии такие позиции не исчезнут. Но их готовят просто больше, чем нужно. Конечно, получается, что часть людей остаются свободными, без работы. Особенно в условиях кризиса и на фоне нестабильной ситуации их становится еще больше. Показатели безработицы по ним растут, и они вынуждены либо переквалифицироваться, идти в какие-то смежные области, либо пытаются искать работу по специальности. Но так как срок поиска у нас увеличился за эти два года, процент безработицы для людей с высшим образованием, конечно, высокий, но я не могу утверждать, действительно ли это 20%. Но что цифра выросла относительно предыдущих годов, это так.
С.Е.: Есть у вас статистика, какие люди с каким именно высшим образованием чаще всего оказываются безработными и начинают искать работу?
М.И.: Как я уже сказала, в зоне риска старые для рынка труда профессии — экономисты, юристы. Их очень много на рынке, и не очень понятно, как с ними работать, потому что не нужно нам столько экономистов и юристов. Есть нехватка, например, квалифицированных программистов, идет дисбаланс. Очень много также представителей сейчас творческих профессий. К ним относятся журналисты, редакторы, социологи. Все профессии, которые у нас давно на рынке существуют, испытывают трудности. Банковские работники — это вообще самая нестабильная сейчас категория. У многих финансовое образование или банковское дело. У них сейчас очень сложная ситуация на рынке. Мы наблюдаем некоторые позитивные моменты именно для банковского сектора, но это одна профобласть, которая не показывает явных положительных трендов. Там один месяц растет спрос и количество вакансий, другой месяц не растет. И очень много людей свободных, учитывая, что и банки закрываются. Для этих специалистов сейчас не очень простые времена. Люди, которые получают высшее образование по специальности «Страхование», — это тоже одна из категорий, в которых все не очень благополучно.
С.Е.: А есть ли какая-то зависимость от возраста среди людей с высшим образованием, которые ищут работу? Есть какая-то преобладающая группа? Или во всех примерно одинаково?
М.И.: Сейчас тоже нет особо жестких требований к возрасту. Понятно, что самая преобладающая группа на рынке труда в целом, если мы даже будем смотреть по количеству соискателей, по количеству людей, резюме, то это, конечно, возраст 25−35 лет. Это самая насыщенная группа людей, которые сейчас заняты на рынке труда. 25 лет — это как раз человек, 2−3 года назад получивший высшее образование. Это человек, который закончил вуз, немного где-то поработал, набрался опыта и сейчас уже непосредственно начал искать работу применительно к его профессии, если у него не получилось это сделать раньше, то есть пытается как-то строить карьеру либо подумывает о том, что надо поменять вообще специализацию. Это такой пограничный возраст для людей.
Явного преобладания нет. И плюс сейчас работодатели никогда не говорят ничего про возраст, потому что это тема достаточно скользкая, учитывая закон о дискриминации. Поэтому никто не будет говорить сейчас, что «мы предпочитаем сотрудников такого-то возраста».
С.Е.: Оказывает ли качество образования влияние на дальнейшее трудоустройство? Можно ли говорить о том, что из числа безработных с высшим образованием 50% не могут в общем-то называться специалистами? Вы наверняка помните, одно время ходили по интернету видеоролики, где спрашивали выпускников юридического, например, факультета: «Процитируйте, пожалуйста, первую статью Конституции РФ» — и никто не мог процитировать.
М.И.: Да, там была серия вопросов, проверяющих знания. Самый явный пример такого дисбаланса системы образования и рынка труда — это представители инженерных профессий. Сами работодатели отмечают, что у нас есть нехватка в электриках, высококвалифицированных инженерах, которые владеют современными технологиями. И при поиске таких кандидатов приходит достаточно большое количество людей, которые на эту позицию заявляются, но качество образования и знания этих специалистов не подходят работодателю. Поэтому иногда им приходится обращаться и на Запад, пытаться как-то найти там специалистов. Потому что у нас есть проблема, что в наших вузах обучают технологиям, которые немного уже устарели, на некоторых производствах уже более современное оборудование, на котором выпускники вузов не умеют работать. И возникают проблемные ситуации — одни говорят, что их не беру на работу, и поэтому профессия инженера становится менее привлекательной для этих сотрудников. А с другой стороны, работодатели жалуются, что не могут найти себе квалифицированного специалиста. Вот это, наверное, самый явный пример на рынке труда, где есть расхождения в знаниях, которые получают сотрудники и которые нужны работодателю.
С.Е.: А опыт? Требуются-то в основном с опытом, откуда он у студентов?
М.И.: Опыт — это еще одна болевая точка. Но сейчас мы все-таки наблюдаем некоторую стабилизацию этой ситуации. Если раньше работодатели даже не рассматривали никакие варианты, и студентам было действительно сложно себя развивать и строить карьеру, то сейчас мы наблюдаем развитие всевозможных программ стажировки. Некоторые компании сейчас делают акцент на то, чтобы выращивать кандидатов внутри себя, поэтому часто пытаются ухватиться за какого-то молодого студента, которые еще не закончил даже вуз, и растят его внутри компании. Но тут, правда, другие риски, — бывает, что его вырастят, а он переходит в другую компанию, это обратная сторона. Но практика стажировок и удержания кадров, рынок сейчас немножко смещается. Если раньше работодатели работали в основном с вузами, то сейчас это все сдвигается на уровень школьников. Пытаются даже на этапе 10−11 класса найти те самые таланты, потому что поиск и удержание талантов — это то, чем сейчас занимаются работодатели, чтобы их сотрудники долго работали у них, с самого начала пытаются их поддерживать. Некоторые компании, типа «Яндекса», открывают школы программистов, чтобы как раз вырастить себе сотрудников. У нас в компании тоже есть такая школа. Это практика достаточно распространенная.
С.Е.: Немного в сторону американской модели, когда колледж…
М.И.: Да. Это как раз связано с тем, что они не могут найти, возможно, даже и через вузы таких сотрудников. Поэтому это такой альтернативный способ поиска себе кадров за счет того, чтобы организовывать внутри себя уже какое-то обучение.
С.Е.: Именно не устраивает качество подготовки? Или вузы у нас сейчас превратились в некие закрытые сообщества?
М.И.: Это вопрос именно качества, как раз на примере инженеров, которых я описала. Вузы открыты к общению. Вопрос только в том, что никак не найдется точка пересечения, где мнение работодателя и мнение вуза совпадет, чтобы можно было более продуктивно работать. Вузы достаточно открыты, они даже пытаются с какими-то компаниями заключать партнерские соглашения, чтобы часть студентов направлять. Но практика не очень пока эффективна, ее не хватает. И поэтому просто сейчас используют альтернативные варианты.
С.Е.: Из того, что вы описали, получается некий замкнутый круг. Что лучше даже вообще не связываться с вузами, не получать высшее образование, может быть, даже лучше учиться самому. Потому что в вузе ты столкнешься с какими-то устаревшими технологиями, а знания ты будешь получать скорее непосредственно на производстве, чем в вузе. Так получается?
М.И.: Я бы немного по-другому сказала. Конечно, совсем списывать со счетов высшее образование и вузы не стоит, потому что какую-то общую базу знаний они в любом случае дают. Скорее, нужно подкреплять знания вузов каким-то дополнительным образованием, сочетать вуз, который дает общее направление, верхушку знаний, которая тоже нужна, без нее будет сложно получить какое-то дополнительное образование. Но так как возникают вот эти пробелы, либо система образования не успевает за рынком труда, либо какая-то другая проблема возникает, то самим студентам нужно периодически мониторить ситуацию на рынке в их специальности. Если они видят, что где-то действительно вуз не дорабатывает, то в этот момент уже самостоятельно подкрепляются знания. Но такая практика же не в каждой профессии. Среди маркетологов, например, вполне качественные знания. Тут вопрос конкретных позиций, где возникает явный дисбаланс. А в целом высшее образование достаточно полезно, потому что это определенный набор знаний, определенны навыки, которыми нужно овладевать в любом случае.
С.Е.: Вы говорили, что сейчас есть некий переизбыток на рынке экономистов, юристов, несмотря на то, что спроса на них как такового нет. Но при этом люди все равно идут учиться на экономистов и юристов. Как объяснить этот парадокс? Почему это пользуется популярностью у абитуриентов, но работодателям это не нужно?
М.И.: Тут есть исторический фактор. Когда родители советуют иногда абитуриентам, куда поступать, у них в головах по-прежнему есть, что экономист — это престижно. Какой-то стереотип исторически сложился, который до сих пор работает даже не современной молодежи. Мы проводили подобное исследование «Как вы выбрали свою специальность?», спрашивали у студентов, которые буквально только поступили в вуз. И они как раз основную причину называли, что им посоветовали родители, которые считают, что это престижно по-прежнему, модно. Это как раз касается экономистов и юристов. Эти профессии по-прежнему престижны. Просто у родителей, которые это рекомендуют, нет единой информации о том, что столько юристов и экономистов не нужно рынку. Поэтому они продолжают советовать это по старой памяти.
Вторая причина — этих кафедр больше всего. Там не всегда высокий конкурс на место, туда проще поступить, чем в технический какой-то вуз. Поэтому многие идут, получают это техническое образование, но при этом для себя уже держат в уме, что она будут работать не экономистом, а в какой-то немного другой области.
С.Е.: А потом появляются такие анекдоты из разряда: «Что вы говорите, когда видите филолог? — Пепси и картошку фри».
М.И.: Ну если грубо, то да.
С.Е.: Мы сейчас говорили об изменении рынка, о потребностях. Это естественный процесс, что рынок таким образом развивается и пришел в данный момент времени именно к такой ситуации? Это естественно или это произошло под давлением каких-то факторов, и рынок «ломался» до такой ситуации, что экономистов и юристов в избытке, они уже не нужны?
М.И.: Это естественная трансформация рынка, потому что процессы меняются, появляются новые сферы бизнеса, новые системы ведения бизнеса. Еще лет 15 назад сложно было представить, чтобы люди работали удаленно, онлайн. И появление таких процессов порождает появление новых профессий. Смещаются акценты. И даже если мы говорим непосредственно про рынок труда, если раньше это было высшее образование, там были экономисты, то сейчас экономисты — это уже не высшее образование, это больше знания и умения этого человека. Немного на уровень вниз спускается рынок. И когда со студентами работают представители компаний, они как раз тоже постоянно говорят именно про навыки, про знания, которые должны быть, а не просто про название того, что у тебя в дипломе написано. Рынок уменьшается, дробятся профессии. Если раньше был только маркетолог, то сейчас у нас есть интернет-маркетолог, диджитал-маркетолог, отдельно специалист по социальным медиа. Все, что делал один маркетолог, теперь разделилось на 5−6 профессий, и они становятся вполне востребованными на рынке, с неплохими зарплатами. Это процесс естественный. На Западе он уже более развит, вот эта модель у них чуть быстрее идет, чем у нас. Но это не нужно воспринимать как какую-то критичную ситуацию. Это просто естественный процесс, в рамках которого нужно адаптироваться.
С.Е.: А можно ли сделать какое-то предположение, как дальше рынок будет развиваться? И можно ли на основе этого предположить, какие специальности уйдут, останутся ненужными, встанут в один ряд с юристами и экономистами, а какие наоборот, будут еще больше востребованы?
М.И.: Тут я отвечу с двух точек зрения. Первая — конечно, мы потеряем часть профессий, которые полностью автоматизируются. Это естественный тоже тренд на рынке. Это кассиры, операторы колл-центра, частично переводчики, потому что сейчас очень много сервисов, благодаря которым можно перевести информацию, и использовать переводчика нет потребности. Это одна сторона. А если более глобально подумать, немножко футуристически, то, наверное, мы в принципе уйдем от профессий как таковых, не будет такого набора профессий, как есть сейчас, а будут просто люди, которые умеют что-то конкретное делать. И в рамках вот этих локальных своих знаний они и будут работать. Возможно, рынку как таковые экономисты не будут нужны, а нужны будут совершенно другие люди, которые будут на стыке всего этого работать.
С.Е.: Интересный взгляд. Хотел еще вопрос задать: на том же выступлении Татьяна Голикова заявила, что к 2022 году ожидается острая нехватка бюджетных мест в вузах. Это как-то скажется на рынке трудоустройства?
М.И.: На рынке сильно, может, и не скажется. Скорее, скажется на самих сотрудниках, работниках, потому что не у всех будет возможность платить за обучение. Возможно, на рынке как раз появится большое количество персонала со средним образованием, неквалифицированный рабочий труд. Возможно, это как-то решит проблему нехватки у нас людей со средне-специальным образованием — поваров, кондитеров. Туда обычно не идут, потому что кажется, что это непривлекательно, низкие зарплаты, два вот этих ключевых фактора. Если же все вузы станут коммерческими, то часть людей, возможно, посмотрит в сторону средне-специального образования. Компании постоянно испытывают нехватку именно в таких людях. Возможно, как-то выровняется этот баланс. Потому что все обычно хотят работать менеджером по продажам, потому что там высокая зарплата, IT-специалистами, но никто не хочет работать кондитером на каком-то предприятии, потому что там зарплата 40 тысяч рублей. Если выбирать — менеджер по продажам 100 тысяч и кондитер 40 тысяч, — конечно, большинство выбирает менеджера по продажам. Возможно, такая ситуация откроет шанс для колледжей всевозможных, они станут более востребованными у людей, и появятся люди с тем самым образованием, которое сейчас нужно.
С.Е.: Если у нас все будут выбирать менеджеров по продажам, в итоге работать-то некому будет, и весь этот шар лопнет.
М.И.: Конечно, когда-нибудь, да. У нас в стране достаточно большое количество вузов, ни в одной стране нет такого количества вузов. Если посмотреть на наших родителей, то в те времена не поступало столько людей в вузы. Люди поступали тогда в ПТУ. А после того, как возможностей поступить в вуз стало больше, то все ринулись получать высшее образование. У нас достаточно большое количество людей с высшим образованием, если смотреть в сравнении с другими странами. На Западе наличие средне-специального образования не является каким-то негативным моментом. Там достаточно много людей, у которых степень бакалавра, у нас раньше этого не было, только недавно появилось, на Западе бакалавр не считается высшим образованием. Там надо обязательно еще магистратуру закончить. И у них очень часто люди останавливаются именно на этой ступени, работают, находят какие-то возможности для роста. А у нас есть перекос в сторону огромного количества высших образований. И ценность самого высшего образования из-за этого немного снизилась, как таковая. Если раньше поступить в МГТУ им. Баумана считалось как-то очень престижно, то сейчас это становится уже более рядовой ситуацией. Тут скорее вопрос именно обесценивания высшего образования. И, возможно, если оно станет более коммерческим, то ценность знаний, которые там дают, наоборот, вырастет. И тогда специалисты смогут более четко соответствовать работодателю, который их пытается найти и сейчас не находит из-за того, что все размыто.
С.Е.: Интересная тоже теория. Посмотрим, как оно будет и будет ли вообще.
М.И.: Да, здесь сложно прогнозировать.
С.Е.: Вы говорили, что есть нехватка инженеров, программистов. Это если смотреть с точки зрения работодателя. А если посмотреть с точки зрения правительства и Счетной палаты, Голикова, выступая, говорила, что «Наибольший кадровый дефицит наблюдается в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении. Меньше всего работников требовалось в сфере образования». То есть работодателям нужны одни, правительству нужны другие, а в итоге есть третьи. И никак не могут прийти к компромиссу.
М.И.: Что касается сектора сельского хозяйства, то он сейчас один из самых перспективных. Наверное, через 2−3 года мы увидим какой-то всплеск активности в этой отрасли, и туда понадобятся люди. Просто перечисленные области были наименее развиты долгое время, биология, здравоохранение. Особых вложений в эти сферы не было, поэтому там и людей особо не требовалось — не было предприятий, современных производств. Сейчас мы наблюдаем тенденцию возрождения этих отраслей, биофармацевтика, биотехнологии — это как раз те специализации, которые у нас в списке перспективных и востребованных, и действительно, эти люди очень нужны, их просто сейчас физически очень мало. Нужно время, чтобы они обучились, получили образование. Это очень интересные три отрасли. Просто потому что они на старте сейчас находятся, там не нужно такое большое количество людей. Нельзя сказать, что там нехватка этих специалистов настолько явно выражается, как нехватка разработчиков, потому что разработчики — это здесь и сейчас, а эти отрасли — это чуть-чуть на перспективу.
С.Е.: Мария, спасибо, что нашли время и ответили на вопросы, все очень интересно и подробно рассказали.
На связи со студией радио СОЛЬ была Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.
Это было мнение стороннего эксперта, а какова ситуация в вузах, какие специальности у абитуриентов пользуются популярностью, как легко или как трудно устраиваются выпускники вузов на работу — об этом мы поговорим с представителями университетов. С нами на связи Александр Балицкий, проректор по внеучебной и социальной работе со студентами ИГТУ (г. Ижевск). Александр, здравствуйте!
Александр Балицкий: Здравствуйте!
С.Е.: Предыдущий наш эксперт говорила, что сейчас на рынке труда есть спрос на инженеров. ИГТУ, разумеется, готовит инженеров. Если сравнить с другими вузами, хотя бы с удмуртскими вузами, можно ли сказать, что технические специальности пользуются большей популярностью у абитуриентов, чем гуманитарные?
А.Б.: Со всей ответственностью заявляю, что именно так. Мы мониторим постоянно ситуацию о том, куда, где и как идет движение наших выпускников. И за все эти годы, даже самые сложные, ничуть не преувеличиваю, наших выпускников, которые не могли после инженерного вуза найти бы работу, можно было по пальцам одной руки пересчитать. Как правило, они пользуются спросом. Причин тому множество. Одна из них заключается в том, что республика как была, так и есть по структуре своей экономики очень инженероемкой. Производства оборонно-промышленного комплекса
С.Е.: Вы говорите, что можно по пальцам пересчитать тех, кто выпускается из вашего вуза и остается без работы.
А.Б.: У нас на бирже не стоит сегодня почти никто.
С.Е.: А какой процент выпускников устраивается по специальности? И куда деваются остальные?
А.Б.: С точностью до 3% сказать не могу. Но за последние несколько лет, по нашим наблюдениям, более половины выпускников вуза, закончившие те или иные инженерные специальности, продолжают работать примерно в том же русле, в котором они получали образование. И где-то около 40% работают не по специальности. Но где-то близко с теми знаниями, которые они получали. Дело в том, что наши промышленные предприятия, хоть и переживают некий подъем, сегодня после того провала, который был 10−15−20 лет назад, оправиться в полной мере еще не могут. И поэтому поглотить весь тот контингент, который мы имеем на выходе из вуза, переварить, безусловно, не способны. Но, может, это так и должно быть, потому что ситуация складывается таким образом. Я беседовал со многими работодателями нашими, крупными заводами оборонного характера, решая проблему одну: как сделать так, чтобы работодатель, желая эксклюзивный товар в виде ориентированного на его производство, знающего его производство выпускника, пришел в вуз и создал условия, более-менее оптимальные для того, чтобы вот эта адаптация после вуза к предприятию была максимально гибкой и быстрой. Не хотели идти некоторые заводчане. Говорили: «Переизбыток инженерных кадров на рынке труда позволяет мне сегодня, не вкладываясь в образование, поискать и найти нужного мне инженера, за которого заплатили другие работодатели». Слушайте, вы мощнейший завод, вы одно из градообразующих предприятий. Кадры, работающие у вас, — это наши выпускники. Почему бы вам не повернуться к нам лицом и восполнить те проблемы, которые, естественно, в высшей школе сложились за последние годы, когда лабораторная база, производственная база отстает от тех передовых технологий, которые есть на производстве. «А зачем? Пусть в это вкладывается кто-то другой. А я все равно найду на рынке труда».
С.Е.: Видимо, по логике работодателей, должно государство вкладывать в это средств.
А.Б.: Да. Они привыкли. Долгие годы они сидели на очень благоприятном таком режиме, когда государство их кормило. Они не считали нужным с вузами особо [сотрудничать]. Я не могу сказать за всю Одессу, что называется, но за последние годы наш вуз нашел очень хороший ход. Мы пошли несколько лет назад с предприятиями на очень хорошие взаимоотношения — а давайте создавать вместе базовые кафедры на территории нашего вуза. Предприятия с трудом, но пошли навстречу. И мы сегодня имеем 17 базовых кафедр, 17 именных аудиторий, которые сделали предприятия в нашем вузе. А это сближает и уменьшает люфт между спросом, который предъявляет работодатель к выпускнику, и тем, к чему его готовит вуз. Очень часто этот люфт ужасным был. Мы, в своей плоскости вращаясь, сетовали на то, что был период невостребованности в полной мере наших выпускников, как нам хотелось бы. А предприятия сетовали на то, что уровень их не дотягивает до их запросов и требований. Не секрет, что многие современные производственные линии на ряде уникальных производств сегодня эксплуатируются на 50% КПД. Потому что наши специалисты, к сожалению, даже при всем том, что мы работаем в тандеме «завод — вуз», что было когда-то, в советские времена, не дотягивают до тех передовых технологий, когда «буржуйские» станки приходят, а наши немножко отстали. Этот люфт возможно преодолеть, когда предприятия и вузы вместе будут. Предприятия, кстати, некоторые пошли по такому пути: они создали у себя внутри корпоративные университеты, которые позволяю доучить тому, чему не доучил вуз, у себя на производстве. Такие прецеденты есть, тоже интересный ход.
С.Е.: Общался до вас с экспертом по рынку труда. И многие говорят, что даже в некоторых случаях стараются миновать вуз и искать среди старшеклассников потенциальных инженеров, например. Такие примеры есть?
А.Б.: Не знаю, к счастью или к несчастью, но мы такую проблему пока не наблюдаем. Только частично. Некоторые предприятия, которые находятся вне пределов города, в небольших городишках республики, где сложно получить хорошего специалиста рабочего уровня, с развалом системы ПТУ, этого мощного социального и профессионального лифта, который мы имели и который разрушили. Сегодня, конечно, самый страшный дефицит — это рабочие профессии высокой квалификации. Да, ряд предприятий пошел по такому пути. Они сегодня сумели вернуть на заводы тех уникальных мастеровых людей, которые когда-то были наставниками, мастерами и прочее, чтобы, отлавливая, заманивая старшеклассников, восполнять вот этот пробел, который сегодня, к сожалению, сохраняется. Доучивать у себя, доводить до того уровня, который когда-то давали заводские ПТУ. Сегодня ведь заводы своих ПТУ не имеют, как раньше. Самый страшный дефицит — кадры рабочей квалификации. По такому пути пошли некоторые. Но в крупных городах, типа Ижевска, относительно крупного города, проблема так не решается. Потому что есть инженеры. А сегодня труд квалифицированного рабочего на передовом предприятии, а у нас таковых достаточно много, требует более инженерного образования, чем уровня ПТУ. У нас многие инженеры работают на вот таком стыке между высочайшего уровня квалификации рабочего и почти что инженерного труда. Там, где оборудование современное, передовое, а такое есть.
С.Е.: Спасибо, что нашли время и подробно нам все рассказали.
На связи со студией был Александр Балицкий, проректор по внеучебной и социальной работе со студентами ИГТУ (г. Ижевск).
Татьяна Голикова также говорила о том, что «наибольший кадровый дефицит наблюдается в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении». Но при этом сама же Голикова заявила, что «студенты, которые оканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97%».
А сейчас на связи со студией радио СОЛЬ Владимир Морозов, директор регионального центра содействия трудоустройству ТулГУ (г. Тула). Владимир, здравствуйте!
Владимир Морозов: Здравствуйте!
С.Е.: Заявляют о том, что сейчас доля безработных, получивших высшее образование, выросла. Юристов и экономистов много, при этом все идут учиться на юристов и экономистов, а они и не нужны. На примере ТулГУ можно ли сказать, что, действительно, так оно и есть?
В.М.: Чтобы ответить на этот вопрос, хотел бы сказать, что наш университет фактически ТулГУ — единственный в регионе. Мы, хоть и являемся классическим вузом, но 70% наших специальностей все равно остаются специальностями технического профиля. Поэтому я могу сказать и про техническое направление, и про нетехническое направление. Действительно, мы можем понимать, что информация, которую дают в правительстве, — это информация, основанная на статистических данных. Но у нас есть в регионе одна особенность. Мы — регион промышленного толка, производственного толка, оборонные предприятия у нас сконцентрировались достаточно хорошо, активно работают, это исторически сложилось, оружейный завод тульский. Поэтому по трудоустройству наших «технарей» я действительно подтвержу, что это достаточно востребованные ребята. Они находят работу. И в этом плане у нас задачи стоят уже по достаточно плодотворному сотрудничеству.
Что же касается вопроса, который вы поднимали, я внимательно вас слушал и эксперта группы HeadHunter, о том, что сейчас некоторая наплывность специальностей нетехнического профиля — социальные, гуманитарные, юридические, экономические, — востребованность этих специальностей более низкая. В этом есть определенные закономерности. Но по нашему региону, слава богу, ребята, которые обучаются на такой специальности, достаточно хорошо трудоустраиваются. В этом, кстати, нам помогает Москва. Потому что мы, хоть и глубокая провинция, по взгляду нашей столицы, но наши ребята достаточно мобильны и туда уезжают. Кстати, и формулируют условия того, что не всегда они могут в том потоке специалистов профиля найти себя в столице. У нас промышленный кластер, который сложился из огромного количества предприятий, чем для нас приятный, помимо потребления наших технических выпускников, их трудоустройства, — достаточно широко востребованы специалисты гуманитарного профиля, экономического профиля. Конечно, они ставят нам условия, и мы, выпуская этих специалистов, создаем такую обстановку, чтобы они были подготовлены под именно промышленность, в какой-то степени. Хотя, достаточно много ребят, которые находят себя и в свободном полете. По последней статистике, у нас 4% выпускников всех являются бизнесменами. Если это отнести к нашим «не-технарям», эта цифра растет многократно. То есть в целом по Тульскому региону мы такие цифры не испытываем на себе. Но для меня лично как для руководителя центра содействия трудоустройству понятно, почему такая цифра у нас по России. У нас есть достаточно серьезные регионы, включая Москву, где существуют некоторые изменения по рынку труда. И там соответственно есть некоторая невостребованность.
С.Е.: Вы говорили, что довольно много выпускников уезжают в Москву работать. А в Туле тогда кто остается работать?
В.М.: Довольно много — я бы так не подтвердил. Нет. По оценке, у нас 86% по последнему году остались в регионе. Это огромная цифра. Почему ребята уезжают — это не только Москва. У наших соседей, Калужской области, достаточно много предприятий промышленного толка с мировыми брендами, ребята утекают туда. Отток наших ребят в этих направлениях — это небольшая величина, и она, наоборот, не говорит об отрицательном моменте. В регионе остаются, работают. Я думаю, что эта перспектива сохранится впереди, потому что, как говорит специалист из Ижевска, темп на промышленный и оборонный блок идет. И я знаю последние высказывания наших коллег с заводов о готовности, что на 10 лет стабильно вакансии для нашего вуза будут. И я еще раз повторюсь, это вакансии не только технического профиля. Это направления юридические, экономические, гуманитарные.
С.Е.: Если есть на 10 лет, то, например, через год, если я правильно понимаю, все равно еще будут оставаться свободные места. Не все выпускники этого или следующего года, например, или даже если все они устроятся по профессии, все равно еще будут свободные места оставаться. Я правильно понимаю?
В.М.: Эти места будут не потому что их не занимают, а потому что идет расширение. Идет серьезное расширение заказов, идет постройка дополнительных мощностей, и их нужно занимать. К тому же, к сожалению, есть такая проблема, что средний возраст специалиста достаточно высок. Компания видит серьезные расценки перспектив того, что будет естественная убыль персонала. Поэтому ориентир на наш вуз как единственный такого профиля в регионе, он стоит. Не только у нас, в соседних регионах так же. Я имею в виду, которые обращаются к нам.
С.Е: Не могу не задать вопрос. Сейчас, по словам Татьяны Голиковой, отмечается рост рождаемости, за последние несколько лет на 6 процентов. В связи с оптимизацией сократилось число вузов. Соответственно, конкуренция стала больше или меньше? И если дальше будет развиваться такая тенденция, что поступающих будет больше, как рынок себя будет вести в данной ситуации?
В.М: Последняя динамика по приему в нашем вузе говорит о том, что у нас все больше бюджетных мест. Конечно, в основной массе спрос на технические специальности. Но хочу сказать, что в последние годы появилась прибавка по бюджетным местам на юриспруденцию, на гостиничное дело, для регионов это исторические места, которые нужно развивать. Государству это нужно, поэтому места появляются. Действительно, демографическая яма пройдена, но рост незначительный. Поэтому для нас конкуренция с другими вузами и со средними профессиональными образовательными учреждениями очень чувствительна. Правильно мои коллеги говорят, есть такое понятие, как популярность профессии. Это не относится к нам, к вузу. Мы пытаемся максимально себя представлять, это уже социальный, общественный момент. Ребята не всегда выбирают себе технические специальности, поэтому борьба за них идет достаточно серьезная, олимпиадная, выезд в школу. Когда нам говорят, что работодатели пришли в школу, у нас регионы недавно пришли. Я могу сказать, что они пришли вместе с вузом, потому что они понимают, что профориентация должна начинаться там, они понимают, что подготовить этих специалистов без вуза нельзя. Поэтому мы в тандеме с ними работаем. В университете такая политика есть, День открытых дверей, когда в вуз приходят абитуриенты знакомиться со специалистами. У нас эта практика настолько углубилась, что ребята не просто приходят в вуз, но мы гарантируем в этот же день экскурсию на предприятие. Выбирая направление подготовки — ты выбираешь профессию. Это ответ на ваш вопрос.
Почему ребята выбирают профессии не технического профиля? Наши гуманитарные, экономические профили, ребят мы набираем, у нас есть хорошие конкуренты, которые открывают здесь свои филиалы, мы с ними боремся. Должен сказать, что по статистике наши выпускники занимают порядка 40% рынка юридической направленности. 40% рынка таких вакансий — это наш вуз. У нас получается ситуация, что профессию все равно будут выбирать. Вопрос, где ей учиться? У нас есть эта профессия, мы набираем хорошие кадры, у нас есть хорошие программы, мы работаем, трудоустраиваем. Но все-таки есть один перекос, почему выбирают профессии такие. Они очень популярны. И популярность их набирается этим представлением, что работать в сфере не технической — это статусно, что эта профессия несет специальные условия труда, говоря простым языком, «будешь работать в кабинете, в офисе». Сейчас все объявления весят: «Работа в офисе». Это давняя уловка, которая предусматривает такие условия труда.
Дальше идут моменты, ассоциирующиеся с тем, что постоянно интеллектуальное развитие идет. Ты работаешь в современных условиях, и это мнение формирует большой поток. Он выражается в том, что каждый год, в школах, когда ребята выбирают экзамен по ЕГЭ, то физику выбирают немногие. Хотя у нас, в Тульском регионе, два лидера. Это обществознание и физика. Сразу можно сделать вывод, что ребята ориентированы на технику и на специальности социального, гуманитарного и экономического профиля. Это ошибочное мнение, и его нужно развивать, и оно реально развивается. Если наши ребята посещают предприятия, то они видят, как работают специалисты. Это чистые помещения, приятные условия, уровень зарплат достаточно интересен, они решают такие задачи, которые позволяют сохранить интеллектуальный уровень постоянно. Работать над задачами, которые сохраняют тебя как личность, как специалиста. Нет так называемого «Дня сурка», как говорили мне студенты. Это новые, открытые задачи. Наш вуз, совместно с предприятиями, работает над этим. Не всегда все получается, потому что развеять мнение, что «я буду не технарем», нам не удается. В любом случае, ребята, которые выбрали такое направление, слава богу, у нас есть, что предложить, и это востребовано.
С.Е: Владимир, спасибо, что нашли время и ответили на мои вопросы, рассказали ситуацию в Тульском государственном университете. Спасибо, до свидания!
В.М: До свидания!
С.Е: На связи со студией радио СОЛЬ, был Владимир Морозов, директор регионального центра содействия трудоустройства Тульского государственного университета.
Сейчас мы все-таки попробуем связаться с профильным вузом, с проректором по образовательной деятельности Казанского государственного медицинского университета Лейсан Музиповной Мухорямовой, которая расскажет о ситуации с трудоустройством вузов здравоохранения. Лейсан Музиповна, здравствуйте!
Л.М: Здравствуйте!
С.Е: К сожалению, не так много времени у нас осталось, поэтому сразу вопрос. Татьяна Голикова, говоря о том, что увеличивается доля безработных, получивших высшее образование, говорила, что кадровый дефицит наблюдается в здравоохранении. Но при этом сказала, что студенты, которые заканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97%. Есть все-таки некие противоречия или все-таки студентов, которые оканчивали медицинские вузы, не хватает, чтобы покрыть все желания работодателей и сферы здравоохранения?
Л.М: Спасибо, это очень интересный вопрос. Мы занимаемся изучением этого вопроса, изучением рынка медицинского труда и тем, как наши студенты трудоустраиваются. Есть ведь еще другое мнение, что чуть ли не 50% выпускников медицинских вузов впоследствии уходят из медицины. Вот наши исследования показывают, что есть люди, которые уходят в фарммедицину, в фармацевтические компании, в предприятия, связанные с медициной. Кто-то уходит из государственной системы в частную систему. Но люди, которые получали такое длительное и сложное образование, как правило, находятся внутри системы здравоохранения или рядом с ней. Мы относимся к тому перечню вузов, которые, несмотря на то, что Советский Союз уже далеко, ежегодно занимаются персональным трудоустройством. У нас есть соответствующая комиссия. Мы на ректорском совещании рассматривали этот вопрос. В апреле будут проходить публичные акции, на которые приглашаются и представители практического здравоохранения, которые нуждаются в кадрах. И каждый выпускник имеет возможность познакомиться со всем вакансиями, которые есть. Это мероприятие уже началось. В начале февраля была встреча с министром здравоохранения Республики Татарстан, с министром здравоохранения Марийской Республики.
Буквально на днях у нас был глава администрации Альметьевска, который говорил о тех условиях, которые он предлагает молодым выпускникам вузов, а это вплоть до квартир. Поэтому у нас проблем с трудоустройством нет, но, как всегда, есть мелочи. Большинство выпускников хотят получить узкую специализацию здравоохранения, это специализация по неврологии, акушерства и гинекологии, и мало кто хочет идти в первичное звено здравоохранения, это в поликлинике. Кадровый голод ощущается в поликлиниках и сельской местности. С трудоустройством выпускников на эти места есть проблемы. Это вопрос для местных администраций, они находят и предлагают какие-то пути решения. Так, чтобы студент медицинского вуза ходил и искал работу и не мог ее найти, такой ситуации нет. Может не быть, свободных вакантных рабочих мест, по каким-то резким, высокотехнологичным медицинским специальностям. Я знаю, что в начале этого года испытывал трудности с трудоустройством выпускник ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии, это высокотехнологичная сфера, там рабочих мест вообще не так много. Но он тоже трудоустроился, нашли ему работу.
С.Е: Если кратко, вы согласны в общем и целом, что доля безработных, действительно получивших высшее образование, в последнее время растет?
Л.М: Да, если взять вообще, я думаю, доля безработных растет. Она растет в принципе. Если в этом массиве увеличивается доля людей с высшим образованием, по одной простой причине, что доля людей с высшим образованием увеличивается в массиве трудоспособного населения. Мы перешли практически в ситуацию, когда до 80% процентов выпускников средних школ поступают в высшие учебные заведения, и это нормальная тенденция, это выбор родителей. Я считаю, это благо, когда современная молодежь очень быстро взрослеет по одним сторонам своей личности, но социальная адаптация происходит немножко позже, чем это было в конце прошлого века. То, что молодежь приходит в высшее учебное заведение по программам бакалавриата, еще 4 года находится в приличной среде, с приличными людьми и все-таки занимается изучением науки, это для страны благо. А безработица во всех экономиках бывает. Важно не допустить, чтобы она было дискриминирующей по отношению к отдельным категориям, к женщинам или пожилым людям, которые больше от этого страдают. На то и есть социальная политика, чтобы регулировать эти процессы.
С.Е: Лейсан Музиповна, большое спасибо, что нашли время и ответили на вопросы, высказали свое мнение.
Л.М: Спасибо. До свидания!
С.Е: На связи со студией радио СОЛЬ была Лейсан Мухарямова, проректор по образовательной деятельности Казанского государственного медицинского университета, которая рассказала о ситуации в Татарстане и конкретно о ситуации этого вуза.
Вот такие были мнения работников разных вузов, работников сферы трудоустройства, дальше решать, собственно, вам и делать выводы. Это была программа «Угол Зрения» у микрофона Сергей Егоров. До новых встреч в эфире. Пока!










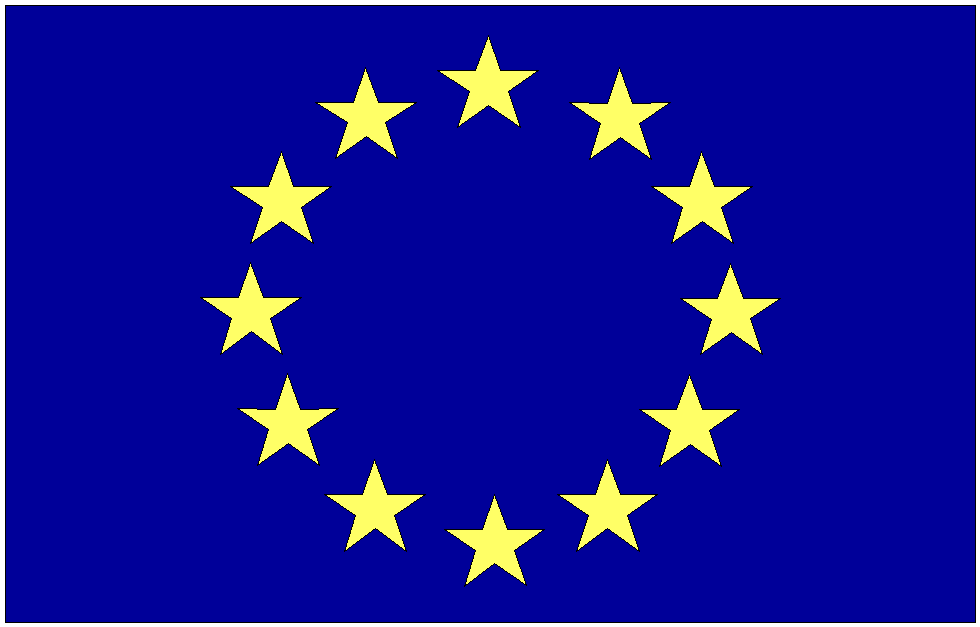 При поддержке Европейского Союза
При поддержке Европейского Союза
