*Техническая расшифровка эфира
Александра Хворостова: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Угол зрения», у микрофона Александра Хворостова. Поговорим мы сегодня вот на какую тему: насколько наша страна может называться доступной средой для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями? Поводом для сегодняшней программы стала программа, которая вышла накануне, «Региon-line», мы связались в рамках этой программы с журналисткой газеты «Волга» Ольгой Лазаревой, которая рассказала нам о женщине Вере Дробинской из Астрахани. Она не только усыновила 7 детей-инвалидов, но повседневно встречается с несправедливостью по отношению к ее детям. Она пытается привлечь и общественность, и СМИ, чтобы, наконец-то, сдвинуть с мертвой точки отношение людей к инвалидам. И буквально недавно Вера Дробинская пожаловалась на администрацию одного из фитнес-клубов Астрахани, которые отказали в предоставлении своих услуг ее дочери. Разговаривая с Ольгой в рамках программы, оказалось, что многодетной матери и ее дочери отказали в предоставлении услуг также и в муниципальном учреждении, в кружке по рукоделию, опять же, сославшись на то, что ребенок «какой-то не такой». Это уже не частное, а, подчеркну, государственное учреждение, где просто обязаны придерживаться социально-государственной программы «Доступная среда», которая должна была закончиться, наверное, с какими-то положительными итогами аж в 2015 году. Так вот, по этому поводу у меня возникает два вопроса: насколько наша страна сегодня доступна для детей-инвалидов и насколько общество готово принять таких детей?
И поговорим мы сегодня с людьми, которые не понаслышке знают и сталкиваются с подобными проблемами – руководителями социальных фондов, помогающими с вопросами о детях-инвалидах в разных регионах нашей страны. И прежде всего мы поговорим с Розой Теймуровной Барановой, руководителем ставропольской благотворительной организации «Открытый дом — Детская служба спасения». Роза Теймуровна, здравствуйте!
Роза Баранова: Добрый день.
А.Х.: Ваша организация «Открытый дом — Детская служба спасения» с какого времени существует, сколько вам уже лет?
Р.Б.: Мы существуем с 1993 года. Мы родительская организация, в свое время точно так же объединялись, чтобы решать проблемы своих детей, чтобы обществу сказать, что мы есть, чтобы помогать, может быть, так будет звучать правильнее, потому что я чаще и чаще прихожу к мнению, что нужно помогать чиновникам, нужно говорить чиновникам, нужно показывать наших детей чиновникам, чтобы они реально понимали, что они есть. Наши дети есть, мы есть. Какие мы есть, такие и есть, рядом с ними, выбирают они нас, не выбирают, но мы есть. Вообще, для государства, конечно, в свое время было огромной проблемой, когда мы ставили вот такие задачи и вопросы по доступной среде, по безбарьерной среде. Многое проходили, как и все организации родительские по всей стране. Сейчас вопросы, может быть, звучат чуть по-другому и стоят чуть по-другому, но, к сожалению, есть такой момент, когда человек остается человеком, где бы он ни был, на каком уровне или где бы он ни находился. И приходит такой момент, когда подаешь вопрос, предположим, вы сейчас рассказали об этой ситуации в Астрахани, - честно говоря, мне казалось, что уже давным-давно такого не должно быть, но увы. Я нередко слышала, что есть такое, что где-то не принимают, где-то мы со своими детьми не устраиваем или портим вид что ли или благополучие какого-то учреждения. Хотя будет справедливо сказать, что многое делается, но многое делается формально. Многое воспринимается формально. Я сторонница такого взгляда, что они дети, несмотря ни на что. Конечно, будет кто-то смотреть не так. Я помню, мне однажды сказали, когда мы привели детей: «Вы нас простите, но мы брезгуем». Я помню, мне было очень больно, я даже расплакалась. Но я понимаю, что это их взгляд, это их мнение. Но прошло какое-то время, я думаю, что нам надо самим родителям больше показывать, потому что толерантности не учат, толерантность показывают, терпение, смирение, добродушное отношение – это все показывается. Я думаю, сейчас нашему обществу чего-то не хватает. Можно очень многое делать, но не хватает чего-то большего, наверное, касаемо нравственности, чего-то такого человеческого. Сейчас очень много всего есть, можно это легко сделать. Я иногда мамам говорю: «Давайте не будем сильно ходить, где-то добиваться, мы можем сами сделать те же пандусы, те же поручни где-то, давайте это показывать». И я считаю, что еще один из таких моментов для того, чтобы наше общество больше знало о нас, о наших проблемах, может быть, больше рассказывать. Рассказывать о семьях, которые чего-то добились, которые могут быть реально героями нашего времени. Мамы, дети, целые коллективы. Я знаю, есть много организаций, которые не боятся брать наших детей. Есть такие звездочки, скажем. И на фоне наших детей другие дети даже очень смотрятся красиво и благородно. Поэтому надо этого не бояться и называть вещи своими именами. Чиновники отчитываются замечательно, но надо иногда называть своими именами вещи, чтобы разрешались какие-то вопросы.
А.Х.: В общем и целом, как вам кажется, насколько изменилось, вы с 1993 года существуете, многие фонды именно с начала 90-х существуют, потому как до этого времени, я так понимаю, проблему вообще никто не затрагивал в нашем обществе, хотя это очень странно, на мой взгляд. Что уже преодолелось, что уже решено за это время? И помогла ли вот эта государственная программа «Доступная среда» или она не на государственном уровне решается, а на региональном уровне, как раз за счет вас, матерей, за счет тех людей, у которых фонды подобные?
Р.Б.: На сегодняшний день эти вопросы решаются на всех уровнях. Насколько это достаточно, это определяется уже не местах, так сказать. Я бы не считала, что все у нас вот так вот. Сейчас очень много рассказов по разным регионам если брать, мы обычно когда собираемся, общественники, делимся, и я думаю, что во многих местах очень многие вещи продвинуты. Но это такой момент – нельзя ориентироваться на одного человека, грубо говоря, или на одну семью. Но при этом, может быть, где-то и нужно отталкиваться от одного человека, потому что люди остаются людьми. И взаимоотношения людьми – это всегда такой вопрос, знаете, как пришел и как ушел, называется. Я думаю, что если оценивать о 5-балльной шкале безбарьерную среду в нашей стране, я бы максимум 3-3+, вот так. Потому что до 4 где-то, конечно, можно дотянуть. Но, опять же, смысл, когда воспринимает по-разному. У нас в Ставрополе есть такой парень, Саша Соломенник, он без рук, без ног родился. Он выступал у Андрея Малахова на «Пусть говорят», ему даже протез сделали, он вырос в детском доме сам. И мы с ним часто везде ездим. Да, конечно, очень интересно многим. Колясочника еще как-то видят. А тут вообще парень без рук и без ног, такой Ник Вуйчич наш, Ставропольский. Он такой добродушный, полненький. И я как мама, как взрослый человек наблюдаю, как за ним наблюдают и как он реагирует. Да, конечно, есть какие-то определенные моменты. Но очень важно, как мы все реагируем на это. Мы с ним в Абхазию в этом году ездили. Мы ездили в лагерь для колясочников. Когда мы видим, что этим ребятам, казалось бы, где-то комфортно, где-то некомфортно, где-то пытаемся им объяснить, помочь, а где-то приходится говорить: «Давай, попробуй, преодолей, потому что это нормально, когда есть какие-то вещи, которые нужно преодолевать». Честно говоря, с сердцами и с головами у нас немножечко разнится в обществе, к сожалению. Потому что инклюзивное образование, об этом очень много все говорят, честно говоря, это уже такой затертый вопрос, особенно между нами, родителями. У нас очень часто поднимается этот вопрос, насколько инклюзия нужна, готовы мы, оно наше, не наше, по-разному. И приходим к мнению, что инклюзия на самом деле у нас в головах и в сердцах, потому что привести ребенка в класс, где сама учительница, скажем, не готова, и требовать от нее доброго отношения, при том, что в классе сидят 30 детишек, и они все имеют право на внимание. Начинаешь когда с учителями говорить, ты понимаешь, что где-то эти вещи не готовы.
А.Х.: Общество пока не готово принять людей не таких, как большинство, да?
Р.Б.: Да, да.
А.Х.: Огромное вам спасибо, Роза Теймуровна, что поделились своим мнением по этой теме.
Р.Б.: Желаю всем, чтобы мы на мир смотрели своими глазами, потому что смотреть чужими глазами – это не всегда понятно. Поэтому когда мамы смотрят глазами детей и при этом очень хотят, чтобы чиновники на это смотрели, может быть, нужно какие-то вещи до них донести, потому что они, увы, не всегда нас видят.
А.Х.: Спасибо вам огромное! Напомню нашим радиослушателям, что на связи со студией была Роза Теймуровна Баранова, руководитель ставропольской благотворительной организации «Открытый дом — Детская служба спасения».
А мы продолжаем говорить на тему доступной среды. Настолько ли наша страна сейчас стала доступной? Естественно, если мы говорим об этой государственной программе, то я не могу не зачитать кое-какие издержки из документа по программе: «Как показывают результаты социологических исследований, наиболее критически доступность социальной инфраструктуры в стране оценивают респонденты с нарушениями функций опорно –двигательного аппарата: почти 60% из них приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 57 - 58% - при посещении учреждений культуры и государственных учреждений, 48% - при совершении покупок». Напомню, что эта программа была принята с расчетом на 4 года с 2011 года. Насколько эта статистика изменилась в лучшую сторону и изменилась ли вообще, мы поговорим с Верой Белухиной, сопредседателем общественного движения «Защита детства» Камышинского отделения, депутатом городского Собрания Камышина, Волгоградской области, матерью ребенка-инвалида. Вера, здравствуйте!
Вера Белухина: Здравствуйте.
А.Х.: Расскажите по опыту вашей Волгоградской области, насколько доступнее стала среда?
В.Б.: Про статистику я вам ничего не скажу, но про доступную среду скажу с удовольствием, потому что моему ребенку 12 лет, и я все прелести так называемые доступной среды и всего, что делается у нас для инвалидов, на себе испытываю. В последнее время, действительно, много есть программ по доступной среде, это и местные программы, и правительство все время говорит за доступную среду. Но я считаю, что в большинстве это просто зарывание бюджетных денег в землю. Потому что доступная среда начинается для инвалида за дверью его квартиры. Еще раньше в квартире, но квартиру мы опустим. У нас разрушены тротуары, у нас во дворах вообще ничего нет, у нас невозможно добраться до поликлиники, до соцзащиты. У нас делаются в Камышине входные группы для инвалидов, и туда деньги зарываются огромные, покупаются автобусы, по-моему, два что ли автобуса купили для инвалидов, с низким полом. Но кто будет этим пользоваться, непонятно мне, например. Потому что я, например, с ребенком не могу во дворе гулять. Я выхожу с коляской и все, я не могу никуда выдвинуться, потому что все вокруг разбито, разрушено, ни тротуара нет, ни асфальтового покрытия, ничего. Возле соцзащиты у нас не асфальт, а подобие асфальта, даже здоровый человек не пройдет. Для чего все это делается, непонятно.
А.Х.: А чиновники, администрация города, они хоть как-то реагируют на такие проблемы? Где-то как-то что-то они комментируют по этому поводу?
В.Б.: Никак они на это не реагируют. Например, про Волгоград я могу сказать, что у нас даже здание, где проходят медико-социальные экспертизы инвалидов, не оборудованы лифтами. О чем можно вообще говорить?
А.Х.: А в школах как дела обстоят, в детских садах?
В.Б.: Школы и детские сады у нас тоже не оборудуются пока что. Я слышала, что у нас в лицее 15-м, это примерно центр города, у нас есть частный сектор даже в центре города, вы сворачиваете с центральной улицы в переулок, а там нет асфальта. В общем, оборудуют они потихонечку, но опять-таки, как добраться? Как добраться до этого объекта? Невозможно никак.
А.Х.: И никто не отвечает на эти вопросы? Задают ли эти вопросы?
В.Б.: Никто не отвечает. Они сами друг перед другом отчитываются. Она по бумагам отчитаются, что они эти деньги вложили в программу «Доступная среда», и все здорово, все хорошо. А эти входные группы, эти поручни, эти пандусы будут просто ржаветь и выходить из строя.
А.Х.: О чем также говорила и Роза Теймуровна Баранова из Ставрополя – о формальном отношении, о формальном восприятии. Налицо это и в Волгоградской области, правильно ли я вас поняла?
В.Б.: Да. Они просто ждали те деньги, которые выделяются на эту программу, потому что просто зарываются бюджетные деньги наши с вами в землю.
А.Х.: С доступной средой понятно. Общество как воспринимает в Волгограде людей не таких, как все, детей-инвалидов?
В.Б.: Общество у нас, как слоеный пирог. Вы имеете в виду простых людей?
А.Х.: Да, простых людей, которые по улице ходят, которые общаются с ребенком, с которыми ребенку приходится общаться в нормальной жизни.
В.Б.: У меня ребенок совсем тяжелый, поэтому мы ни с кем и не общаемся, с простыми людьми. Когда я выхожу во двор, дети близлежащих домов, потому что у нас домик маленький, всего два подъезда, они как-то подходили, когда у меня ребенок был маленький, и они меньше были, эти дети. Они подходили и спрашивали: «А почему он вот такой?». Я объясняла, что это такая болезнь. Сейчас дети иногда с любопытством смотрят, с интересом просто. Раньше, я вот вспоминаю, когда у меня не было детей, и я иногда видела взрослых-инвалидов, я так поняла, что это с последствиями ДЦП, просто сейчас, может быть, стали больше говорить об этом, и меньше вот этих любопытных взглядов, нехороших.
А.Х.: Пальцами уже не тычут, да?
В.Б.: Пальцами не тычут, но отношение чиновников, отношение врачей, отношение людей, которые работают с инвалидами и от которых зависит жизнь инвалидов, их существование, отвратительное просто.
А.Х.: Даже врачей?
В.Б.: Да, в подавляющем большинстве чиновники, врачи, люди, которые занимаются непосредственно работой с инвалидами, - отвратительное отношение.
А.Х.: Скажите, а город Камышин – большой город? Сколько населения в вашем городе?
В.Б.: Где-то 112 тысяч.
А.Х.: Немаленький, получается, город.
В.Б.: Третий по величине в области.
А.Х.: Вы как депутат городского Собрания города Камышина, вы как-то пытаетесь, наверное, влиять на эту ситуацию, как-то повернуть в корне? И с какими проблемами вы сталкиваетесь?
В.Б.: Во-первых, я состою в оппозиции к большинству. Вы знаете, что у нас везде в большинстве «Единая Россия». Красиво они все говорят, пишут, но на самом деле ничего не делается. Те деньги, которые выделяются, это минимум, и выделяются они, я еще раз говорю, в основном на входные группы. Влиять особо – как повлияешь? Все, что сейчас делается, и в Москве, и в больших городах – это все равно что построить дом без фундамента на песке, на глине или корове надеть седло. Все это бесполезно, потому что нет базы. Если бы у нас было все прекрасно во дворах, на наших улицах, то да, конечно, эти входные группы должны делаться, но в последнюю очередь. Когда это все делается без базы, определенной, то много очень вопросов.
Например, поликлиники или дома. Ну, дома у нас построены так, без учета, ни пандусов, ни лифтов.
А.Х.: И очень высокие ступеньки, крутые. А как вам кажется, возможно ли повернуть ситуацию в нашей стране?
В.Б.: Я считаю, что нет. Невозможно. В ближайшее время невозможно. Как мы можем повернуть эту ситуацию для инвалидов, если у нас для здоровых людей ничего не делается?
А.Х.: Спасибо вам большое, Вера, что сумели с нами пообщаться в прямом эфире. Я общалась в прямом эфире с Верой Белухиной, сопредседателем общественного движения «Защита детства» Камышинского отделения, депутатом городского Собрания Камышина, Волгоградской области, матерью ребенка-инвалида. Мы продолжаем.
Вот, друзья, о чем мы говорим – доступная среда, безбарьерная среда, есть ли проблемы? Когда нас только что сказали, что основа нет. Как замечательно было образно сказано – строить дом без фундамента. О положении доступной среды в разных городах России и о приятии или не приятии обществом людей с ограниченными возможностями мы сейчас также поговорим с Юрием Михайловичем Кацем, заместителем руководителя Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Юрий Михайлович, здравствуйте!
Юрий Кац: Здравствуйте.
А.Х.: Знаю, что ваша организация существует уже с 1995 года. С 1995 года изменился ли город Владимир для детей-инвалидов?
Ю.К.: Кардинально. Когда мы начинали, 1995-96-97 год, у нас была мамочка, ее ребенку было лет 10, он был худенький, правда, не ходящий, как сейчас говорят, колясочник, но коляски у него не было. Она его сажала в детскую коляску, до 3 лет которая была, летняя, и возила к нам на занятия дворами. Каждый месяца два максимум эта коляска не выдерживала, все равно 10-летний ребенок – не 3-летний, она разваливалась. Мы дружно искали новую коляску. И так продолжалось несколько раз, пока мы не приобрели обыкновенную детскую коляску для инвалидов-колясочников, и она стала возить на ней по центральным улицам. Так вот, на нее все оглядывались, почему она не хотела, все это дело прятала. И когда меня спрашивают: «Что самое главное, чего вы достигли за эти годы?», я говорю только одно: «Во Владимире, если идет ребенок-инвалид, инвалид на коляске, никто не оглянется – идет себе человек, ну и идет». А тогда это было – по улицам слона водили. Вот как изменилась ситуация.
А.Х.: То есть общество научилось в городе Владимире воспринимать людей не таких, как большинство? Детей-инвалидов, людей с инвалидностью.
Ю.К.: В обществе, скажем так, если не все, то большинство это уже научились. Начали воспринимать детей с инвалидностью как детей, которые имеют какие-то особенности.
А.Х.: А как насчет доступной среды в городе?
Ю.К.: Опять, если сравнивать 90-е годы и сейчас, конечно, нет такого большого прогресса, как в отношении в городе к людям с инвалидностью. Такого мы еще не добились. Но это, честно говоря, более трудный процесс. Если здание уже построено, то переделать его крайне сложно. Но, слава богу, мы добились того, что государство приняло программу «Доступная среда», где четко сказано, что здания, которые вновь строятся, должны иметь доступность для всех людей с любым видом инвалидности. Ведь у нас очень часто представляют доступность только для колясочников. А для незрячих? Но ведь маленькая полосочка желтенькая в начале лестницы и в конце лестницы позволяет им увидеть желтый цвет, самый яркий цвет для любого человека и для слабовидящего человека, как бы определять – вот здесь граница, начало чего-то, а вот здесь граница, конец чего-то. Мелочь, для нас вроде бы мелочь. А для него? Или те же пандусы. То есть много чего уже сделано, но, самое главное, в головах повернулось, что это надо делать. А если в головах повернулось, я думаю, мы сделаем.
А.Х.: Я так понимаю, можно говорить о том, что мы все-таки повернулись, может быть, не совсем лицом, но уже по отношению к инвалидам более-менее не спиной?
Ю.К.: Не спиной, да. Я вам приведу маленький пример. Лет 6 или 7 в центре города наш председатель Любовь Ивановна, для того, чтобы привлечь внимание и оценить доступность города для маломобильных людей, к ним относятся и колясочники, и люди, имеющие ДЦП, парез рук и ног, села сама на коляску и у Золотых Ворот не смогла проехать 50 метров. Любовь Ивановна мне подсказывает, сейчас к нам приезжал Юрий Васильевич Кузнецов, это значимая фигура, он эксперт еврокомиссии и т.д., и т.п., много чего, у него электрический такой мобильчик, как он говорит, “Юриймобиль”. И мы с ним проехали всю улицу пешеходную, которую организовали, без проблем. Вот он прошел на электромобиле – колясочники не говорят «проехали», они говорят «мы идем». Вот он прошел полностью свободно. И он сказал: «Ребята, город Владимир теперь можно смотреть всем, центр города Владимира». Хотя там тоже есть над чем работать дальше.
А.Х.: Насколько вот это изменение к лучшему, о чем вы говорите, - это ваша победа, ваши дела? Или кто-то еще вам помогает в городе? Просто до этого мы общались с городом Камышиным, который в три раза меньше Владимира, и находится не на таком отдалении от Москвы, он в Волгоградской области. Так вот, Вера Белухина, сопредседатель общественного движения «Защита детства», нам рассказала о том, что у них в городе в принципе ничего не готово, ничего не предусмотрено для того, чтобы нормально существовать людям с ограниченными возможностями. Как вам удалось? Что нужно делать тем регионам, которые удалены от Москвы? Мы знаем, что Владимир достаточно близко находится к столице.
Ю.К.: Причем тут «достаточно близко». Москва – это Москва, а Владимир – это Владимир. Я просто считаю, что мы должны везде быть вместе с людьми. Мы на всех мероприятиях, городских, областных, мы участвуем. Люди видят, что есть такие люди, у которых есть эти проблемы. Если ты с кем-то идешь рядом, и этот человек спотыкается, ты же его подхватываешь за руку. Так и все начинают видеть, что у нас, у наших ребят есть какие-то проблемы. Почему не помочь и не решить их? Вот и весь подход. Не эти баррикады, а нормальный рабочий процесс. Всегда обращаться, всегда стучаться, в одну дверь, во вторую, в окошко, в дымовую трубу – мы есть, посмотрите, и у нас есть такие проблемы, и мы не просим их решать, мы их сами решаем, только помогите нам их решить. Мы не говорим «вынь да положь», а вместе готовы все это делать. Обычно люди откликаются. А когда не откликаются, идем к другому.
А.Х.: Сейчас, как вы сами говорите, уже больше откликаются. А что было в 1995 году? Как быстро вы наладили вот этот контакт?
Ю.К.: Слепыми кутятами. Не знали, куда обращаться. И я всегда говорю, что у нас есть человек – Юрий Джибладзе, который приехал к нам проводить семинары. Мы говорили: «Ну помоги, у нас вот дети, они же не учатся. Ничего нет, мы сами организовали их учебу, но хоть чем-то помоги». Он сказал: «Ребята, вы сами никогда ничего не сделаете. Вы должны привлечь внимание общества к этой проблеме. И тогда общество всем миром вам поможет». Вот это его слова. Надо привлечь внимание к какой-то проблеме. Мы сами никогда ее не решим. Сегодня по телевизору было, что в каком-то регионе снесло мост, жители обращались-обращались, наконец, выяснили, что мост вообще никому не принадлежит, никакой бюджет не может выделить деньги, его нет на бумагах. Там возникает вопрос, чтобы поставить его на учет в какой-то бюджет, и там через год-через два выделят деньги. Так люди взяли и сами начали сбрасываться деньгами. И тогда бюджет нашел какие-то другие деньги, часть бюджет, часть жители, часть предприниматели – привлекли внимание к этой проблеме и всем миром ее решили.
А.Х.: Мы в начале программы разговаривали с Розой Барановой, руководителем ставропольской благотворительной организации «Открытый дом — Детская служба спасения». Она сказала о том, что наше общество еще не готово к инклюзии. Насколько Владимир готов к инклюзии, к инклюзивному образованию, в частности?
Ю.К.: Вы знаете, 18 лет назад не было слова «инклюзия», «интеграция» и т.д., и т.п. К нам обратилась родительница, у которой был слабослышащий ребенок, ему было 7 лет, ему надо было идти в школу. Школа для слабослышащих – это в Коврове, интернат. И она сказала: «Не хочу отдавать ребенка в интернат. Это он ко мне на субботу-воскресенье приедет, я его будут только тискать, целовать и облизывать. И воспитывать когда его? Он должен жить в семье». На что мы ей сказали, что есть нормативы обучения детей. Если вы найдете еще 5 детей и 5 родителей, которые готовы не отдавать в интернат, то мы будем добиваться обучения этих детей в рамках обыкновенной школы. Набралась такая группа. Мы пошли в Управление образования. Управление образования сказало: «Мы не знаем, что это такое, как это можно, вот есть 4-дневная школа». На что Горсовет, куда мы обратились, ответил постановлением обязать Управление образования организовать обучение этих детей в 14 школе. И вот 18 лет назад, как сейчас говорят, инклюзивная школа впервые появилась во Владимире. То есть мы в этом вопросе уже давно-давно. А сейчас уже не только 14 школа, все эти 18 лет каждый два года набирается класс такой. Они сначала 5 человек вместе учатся, потом потихонечку, по мере подготовленности их выводят в другие классы по 1-2 человека в класс. Уже первый выпускники закончили школу. И когда было 15 лет, на сцене городского Дома Культуры, когда мы собрали праздник по этому поводу, целый зал сидел, она сказала: «Благодаря всему этому трудитесь, ребята, которые сейчас в 14 школе учатся, трудитесь, у вас будет дорога в жизни везде открыта, вы сможете учиться где угодно, не в специализированных институтах». Она свободно говорит. Самая главная трудность – их научить говорить, этих слабослышащих ребят.
Так вот, инклюзия у нас уже 18 лет назад, когда еще этого слова не было. Ну и сейчас сказать, что в городе Владимире школы инклюзивные, нельзя. Но не только уже в 14 школе, а 73 школа-гимназия, есть и в других школах. А с принятие нового закона об образовании, с принятием федеральных стандартов образования этот вопрос, я думаю, уже обеспечен в нормативной части. И это будет решено. Не завтра, но в ближайшие годы, это точно. Выполнение закона – это теперь уже обязательно.
А.Х.: Подводя итоги вышесказанному, по 5-балльной системе сколько бы вы поставили баллов Владимиру по доступности детям-инвалидам?
Ю.К.: По доступности к чему?
А.Х.: Доступности среды, доступности общества, готовности общества принять детей.
Ю.К.: По доступности общества я вам отвечу примером. У нас председатель Любовь Ивановна вместе с нашим педагогом была на телевидении, где говорила о доступной среде. И телевидение провело опрос зрителей: «Как вы относитесь к инклюзивности в школе? Должны ли дети-инвалиды учиться в школе вместе со своими здоровыми сверстниками/нет, не должны, мы против/затрудняюсь ответить». Мы были очень рады полученному результату. 64% ответили, что дети с инвалидностью должны учиться вместе со своими здоровыми сверстниками. 16% ответили, что затрудняются ответить. И 20% ответили, что против. Вот 64% меня радуют очень даже, а вот 20% меня немножко расстраивают. Вот и весь ответ. Есть над чем работать.
А.Х.: Огромное вам спасибо, Юрий Михайлович, что вы поделились с нами своими мыслями по поводу доступной среды и вообще рассказали нам о том, что же происходит в городе Владимире по этому поводу.
Ю.К.: Спасибо вам, что подняли эту тему. А всем слушателям, всем, кто в этой среде, у кого есть дети с инвалидностью, скажу только одно: е расстраивайтесь, работайте, и если кто-то не отвечает вам взаимностью, идите к следующему чиновнику. Не этот, так другой, но всегда найдется чиновник, который вам поможет. Удачи вам!
А.Х.: Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи был Юрий Михайлович Кац, заместитель руководителя Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».
Продолжаем говорить на достаточно наболевшую тему, насколько общество готово принять детей-инвалидов, насколько программа «Доступная среда», которая была введена в общий оборот в 2011 году и продолжалась до 2015 года, все-таки вывела страну из этого тупикового положения по отношению к детям-инвалидам. Но самое главное – кого же надо все-таки готовить больше: детей-инвалидов или детей, которые воспитывались в обыкновенных семьях, детей таких, как все. Кого надо больше готовить, как подготовить ребенка к тому, чтобы он встретился с ребенком-инвалидом или как подготовить детей-инвалидов к встрече, мягко говоря, не толерантных детей, грубых детей, жестоких детей, мы сейчас поговорим с Алексеем Газаряном, педагогом-психологом, учредителем Центра «Квартал Луи». Алексей, здравствуйте!
Алексей Газарян: Добрый день.
А.Х.: Скажите, пожалуйста, как вам кажется, кто больше готов к встрече: дети-инвалиды к не-инвалидам или наоборот? Нашей стране, сегодня, в 2016 году.
А.Г.: Кто больше, кто меньше, я не знаю, это цифровое сравнение. Мне кажется, что здесь главная мысль про то, что это обоюдовстречный процесс. В подготовке нуждаются как семьи, которые долгое время жили в некотором закрытом формате, в некоторой изоляции, той самой эксклюзии, то есть обратной ситуации. И, конечно, люди, которые не имели опыта взаимодействия. Это и взрослые люди, начиная от людей за прилавками магазинов, заканчивая специалистами в образовательных учреждениях. Этот процесс может происходить только обоюдно, поскольку ни та сторона, ни другая нельзя сказать, что так готовы принимать, взаимодействовать друг с другом, не всегда это знают, умеют. И даже вы сейчас оговариваетесь, ища точные слова, чтобы сказать правильно. Мы говорим слово «норма», «не норма», «обыкновенный», «такой же», «другой». Наш язык еще в этом смысле не очень готов, потому что то, какие есть для этого слова, обороты, порой не удовлетворяют ни ту, ни другую сторону. Есть какой-то консенсус, но он ищется. Поэтому ни язык, ни культура. Но мы движемся в этом направлении. Я думаю, что это такой процесс, который будет происходить, просто для этого нужно время.
А.Х.: Мы же все-таки еще не Европа в этом плане. Как скоро можно будет вообще говорить о том, что Россия хоть где-то, хоть в чем-то подошла близко в этом плане к европейским странам?
А.Г.: Я думаю, что важнейшим шагом будет, когда у нас с вами некоторое первое поколение детей выучится вместе. И у нас появится первое поколение выпускников, которые прошли вместе школьную скамью. И это уже будет первое поколение, в котором мы получим друзей, семьи, может быть, совершенно нового формата. Сколько это примерно? 10 лет, 10 классов, примерно этот год, если считать, что инклюзивный процесс начался года три назад активный, то, я думаю, еще лет 7 – и мы получим принципиально другое общественное сознание, некоторую общественную диспозицию в этом вопросе. Сегодня очень много происходит, мы с вами видим, начиная от фильмов, заканчивая выступлениями, сколько собираются на Ника Вуйчича в Москве. Какое-то время назад это было сложно себе представить в стране, где люди без рук, без ног были закрыты в каких-то дальних интернатах. Сейчас об этом говорится, активна общественность родительская, активны сами ребята, и те, и другие стороны. Я имею возможность преподавать в МГППУ. Так вот, я могу сказать, что сейчас один из основных социальных проектов, который разрабатывают магистранты, студенты, связан именно с детьми с инвалидностью, то есть это сейчас – таким словом, может быть, рыночным, - но это сейчас мощный тренд, который, я думаю, достаточно позитивно скажется на будущем.
А.Х.: Как, по-вашему, подготовить детей к тому, что есть дети не такие, как все, не такие, как они?
А.Г.: Тут все достаточно просто с точки зрения некоторых мировоззренческих вещей. Дети, начиная общаться, задают некоторые базовые вопросы про то, как, почему, и взрослые находят на это определенные ответы, связанные, например, с такой парадигмой, что у каждого есть свои некоторые возможности, у каждого есть свои таланты. Ты в чем-то силен здесь, он в чем-то силен в другом. Это, конечно, меняет образовательный подход и взаимодействие. Но в общем дети это воспринимают достаточно нормально и понятно. И в тех культурах или странах, где дети с раннего возраста, им даже удивительно потом слышать, что есть какая-то дискриминирующая позиция, потому что для них это такой же ребенок. Ну да, у него, может быть, есть какая-то сложность. Скорее всего, это больше тревога, переживание взрослых людей. Мы, например, проводим тренинги для школьников. Обычно мы слышим напряжение со стороны родителей, которые переживают, например, что вот сейчас есть такая история, что коляски заразны, что контакт с коляской, посидеть в коляске или повзаимодействовать, - в этом есть какая-то заразность. В 21 веке у нас еще такое встречается. Или боятся, что некоторые заболевания могут как-то повлиять на ребенка, что, общаясь, у него тоже как-то начнет меняться сознание и т.д. Поэтому больше этих страхов не со стороны детей. У них может быть первая неловкость, неуверенность, незнание. Но это связано с тем, что они не знают, как с ним быть, что можно сделать, чтобы не навредить. Некоторые базовые определенные беседы и возможность, например, совместной игры эти вопросы снимает. У нас в инклюзивном лагере это достаточно быстро все происходит. Они все вместе играют, веселятся, никаких сложностей с этим нет. Это чаще всего взрослые предрассудки. Безопасность, правила – не нужно академии студенческих наук для этого собирать.
А.Х.: Хорошо, как переучить взрослых? Мы говорим – 21 век и какие-то безумные средневековые мысли о том, что коляска может быть вредной, передавать какие-то ужасные болезни и т.д. Как переучить взрослых, наших российских обыкновенных жителей?
А.Г.: Я думаю, что здесь процесс такой: с одной стороны, понятно, мы можем уповать на пропаганду в лучшем смысле этого слова, просвещение, на расширение этого опыта, на снятие кучи разных этих барьеров и предубеждений. Просто просвещение. Как люди за руку боятся здороваться с людьми, у которых ВИЧ, - это людям надо просто объяснять про то, как это передается. Когда-нибудь они поймут, что в этом нет преград, увидят, что тысячи людей рядом здороваются, а он не здоровается, тогда начинает эффект работать. Это одна сторона, просветительская.
Вторая сторона, к сожалению, при всех наших гуманистических пониманиях она все равно будет работать, видимо, это один из путей – все-таки определенные законодательные движения. Потому что закон – это тоже некоторая квинтэссенция понимания. И законы должны в том числе охранять вот это пространство, охранять людей от дискриминации, от оскорблений, невежества и т.д. У нас есть статьи за оскорбление, таким же образом можно считать оскорблением такое дискриминирующее поведение. Как бы мы ни хотели действовать только путем просветительским, понятно, что определенные законодательные процессы будут происходить, здесь ничего не поделаешь.
Например, у нас в Пензе есть такой момент, что многие таксисты не берут инвалидов везти. Кто говорит, «я не обязан, я не то, я не се», могут остановиться и уехать. Мы, понятное дело, создали пул таксистов, которые соглашаются, их отдельно телефоны и т.д. Но по большому счету, в мире человек просто лишается лицензии, и тут даже нечего обсуждать. Потому что – на каком основании?
Я думаю, что это два пути таки основных. И плюс, конечно, опыт этого взаимодействия, опыт отношений, опыт ежедневного общения. Оно будет снимать эти границы. Когда они выйду на улицу, чем их будет больше в парках, на событиях, тем эти границы будут стираться. Просто вопрос еще даже объема коммуникаций. Сейчас их мало, поэтому люди из книжек… И еще важный момент: у нас сейчас инвалиды либо опасные, вредные для развития, либо герои. Ни то, ни то не есть нормально. И то, и то – некоторая форма сигмы, не самая лучшая, потому что ни героизировать их не надо, кто-то герой, а кто-то не герой. И с другой стороны, делать из них какое-то маргинальное сообщество тоже не нужно. Самая простая идея – что это равные люди, со своими особенностями, как и мы все. Поэтому сейчас у нас еще область героизации их. Но это нам надо будет все пережить со временем. Я думаю, мы придем к какому-то понимаю. Уже есть семьи первые, есть школы, есть проекты, есть коммуны. Поэтому я на это смотрю, наверное, больше позитивно.
А.Х.: Это хорошо. А есть ли у вас, возможно, наглядный пример, когда человек был с такими же мыслями, что «не повезу инвалида на своем авто», «не трогай девочку, она как-то не так выглядит», и который переменил свое отношение?
А.Г.: Я вам просто скажу, про себя. Когда ко мне в первый раз в лагерь приехала девушка на коляске, я всегда эту историю рассказываю, притом, что у меня педагогическое образование, я человек просвещенный, но я тоже испытал внутреннюю некоторую сложность, потому что я не знал, как взаимодействовать с другим телом, которое как-то по-иному сложено, как не сделать ей больно, как в эту границу. Мне было сложно где-то. Я не могу сказать, что я как-то брезговал, но и не могу сказать, что я прямо спокойно в эту ситуацию пошел. Мне потребовалось некоторое усилие над собой, некоторое время, чтобы привыкнуть, не сразу, потихоньку. Потом я прочитал, как надо спросить, как надо быть, из-за чего надо переживать, из-за чего не надо. Но в начале это был тоже определенный страх, я боялся. Но потихоньку я это преодолевал. Но у меня-то была профессиональная задача.
По поводу других людей – у нас есть некоторые люди, которые нам жертвуют, но никто никогда не приезжает, им очень тяжело. Им сложно, они не готовы с этим встретиться, потому что для них это, может быть, какой-то вопрос о жизни, о ценностях, не знаю. Я их могу понять, никогда не нужно какого-то насилия. Это добровольный должен быть процесс. Но люди, в общем, потихоньку поворачиваются к этому. Например, у нас первый студент в истории Пензы на коляске стал студентом института, очником. Там пришлось даже раздалбливать часть стен у них, потому что там все не приспособлено, но потихоньку этот процесс пошел. Понятно, вначале кто-то из студентов в сторону, сейчас уже больше вокруг него. Это все процесс. Если ты никогда не видел, это же немножко странно. Это нормально. Хотя для многих это остается сложным, потому что у нас пока инвалидность окутана кучей разных мифов, кучей социальных верований, предрассудков. Поэтому, конечно, когда у человека возникает видение, такое вот тело, у него сразу реакция, что это что-то, что ему сейчас крайне тяжело, что он несчастен. Почему не хотят видеть? Потому что чувство вины возникает. Один из мощных барьеров про взаимодействие – это чувство вины, что «я вот с ручками, с ножками, а у тебя как-то иначе». Но это чувство вины исходит из того, что мы заранее за него предполагаем, что тот несчастен или что «я как-то мог сделать иначе». Хотя я знаю много ребят с инвалидностью, которые переживают свою инвалидность, но у них нет ни в коем случае никакого ни обвинения, ни осуждения других. У них есть вопросы, может быть, к жизни, к богу, к судьбе, но уж точно не вопрос к тому человеку, почему так. Поэтому то чувство вины – это того чувство. Оно субъективно.
Чувство вины, кстати говоря, многим не позволяет как-то приблизиться. Они встречаются с этим, и им с этим тяжело. С этим надо как-то работать, думать, признавать, что тот тоже может быть счастливым. И не надо думать, что только в таком теле мы можем обретать счастье. Бывает и совершенно наоборот.
А.Х.: Огромное вам спасибо, Алексей, что вы смогли с нами пообщаться. С нами на связи был Алексей Газарян, педагог-психолог, учредитель Центра «Квартал Луи». Это была программа «Угол зрения», у микрофона была Александра Хворостова. Услышимся!





















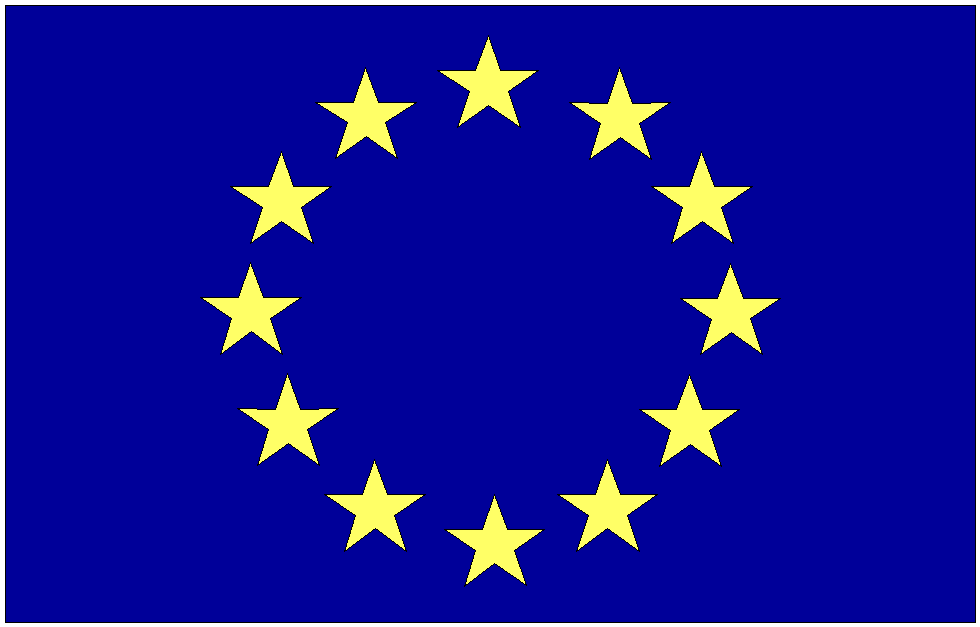 При поддержке Европейского Союза
При поддержке Европейского Союза
