*Техническая расшифровка эфира
Сергей Егоров: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио СОЛЬ программа «Угол зрения». У микрофона Сергей Егоров. Сегодня мы поговорим об отношениях и обществе. Все дело в том, что 28 марта информационный аналитический центр «Сова» представил на общественный суд свой очередной ежегодный доклад по свободе совести в РФ, который называется «Религия и светское общество» 2016 года.
Будет некоторый дисклеймер, прежде чем перейти к этой теме. Он основан на информации, собранной в ходе мониторинга, который проводит центр «Сова». Собранная информация представлена на сайте центра, в отдельном разделе, который так и называется «Религия в светском обществе», туда включаются ссылки на источники в СМИ и интернете. В докладе даются ссылки только на источники, которые не отмечены на сайте. По событиям 2015 года, описанным соответствующим докладом, в докладе 2016 года даны только необходимые обновления. Задачей центра, как говорят составители доклада, не является полное описание всех событий в религиозной и общественной сфере. Упоминаемые в докладе события, как правило, служат иллюстрацией к отмечаемым тенденциям. Проблемы и сюжеты, связанные со злоупотреблением антиэкстремистским законодательством, представлены в отдельном докладе, посвященном этой теме. Это было вступление перед докладом, который опубликован на портале «Полит.ру» и должен появиться на сайте центра «Сова», и сегодня мы поговорим о последних тенденциях 2016 года.
О тенденциях во взаимоотношениях религиозных организаций, религиозных общин со светским обществом в России поговорим мы с авторами доклада, а также узнаем оценку восприятия обществом религии, как воспринимают все последние события, которые так или иначе были затронуты и в докладе в том числе. Событий, которые связывают религию и общество, в 2016 году было очень много. Сам доклад опубликован единым текстом, я думаю, что он займет не один десяток страниц в распечатанном варианте. Во-первых, тут есть несколько разделов по правовому регулированию проблемы мест богослужения, защиты религиозных чувств, покровительства властей по отношению к некоторым организациям, дискриминация религиозных организаций граждан по признаку отношений к религии. Все это мы обсудим с автором доклада Ольгой Сибиревой, экспертом аналитического центра «Сова», автором доклада «Религия в светском обществе» Ольга, здравствуйте!
Ольга Сибирева: Здравствуйте!
С.Е: Ольга, для начала в общих чертах, можно сказать, такая резюмирующая часть, которая представлена в докладе. Какие тенденции наблюдались в 2016 году по результатам этого мониторинга, интернет-источников и СМИ?
О.С: Одной из главных тенденций, которую мы отметили, это продолжение той же тенденции, которую мы отмечали и в прошлые годы, это усиления так называемой «антисектантской» политики. Я слово «антисектантской» употребляю исключительно в кавычках, сразу хочу оговориться, потому что это собственно название, которое многие чиновники, журналисты, да и значительная часть нашего общества употребляет для обозначения протестантских организаций, новых религиозных движений, собственно, тех, кто не упомянут в преамбуле к закону о защите совести в качестве традиционных религий. На протяжении предыдущих лет, мы отмечали, что принимаются подзаконные акты, различные законы, и положение этих организаций ухудшается. И в 2016 был принят пакет законов Яровой и Озерова, который включал в себя поправки, регламентирующие миссионерскую деятельность, которые очень существенно осложнили жизнь этих организаций. Это главное, что хотелось бы отметить. Есть еще ряд моментов, которые можно обозначить как главные, это сохранение конфликтных ситуаций вокруг строительства храмов, защита чувств верующих, довольно интенсивное использование УК для защиты этих чувств. Вот самое главное.
С.Е: Давайте начнем по каждому поподробней. Начнем с самой яркой и резонансной темы. Это принятие пакета законов Яровой, по которому потихоньку начинают действовать в РФ и по так называемым, как я понимаю, антимиссионерским поправкам, которые идут против «антисектантской» риторики. В прошлом году были примеры, вот сразу первый пример, который вспоминается, это йог из Санкт-Петербурга, которого судили по антитеррористическому пакету, по этим поправкам. Вот, казалось бы, йога — она религией не считается, почему, если направлена против сектантов, такое произошло? Как это можно описать? Почему применение пакета пошло именно в этом направлении?
О.С: Знаете, когда эти поправки разрабатывались, там было очень мало времени, чтобы выставить их на свободное обсуждения. Их довольно неожиданно включили в готовый пакет. Многие, кто принимал участие в обсуждении, считали, что если в целом пакет законов антитеррористический, то эти поправки будут направлены на экстремистов или потенциальных экстремистов, на представителей радикальных исламских течений, которых зачастую обвиняют, а зачастую они бывают действительно связаны с какими-то вооруженными формированиями. Предполагалось, что именно к ним будут эти поправки применяться, чтобы они не распространяли свое учение. Я не буду говорить о правомерности такого подхода, насколько обосновано мнение о том, что многих людей, исповедующих ислам, нужно преследовать. Но было такое мнение. За время применения этих поправок, они начали применяться сразу после вступления в силу этого закона, ни разу они не были применены к тем, кого хотя бы теоретически можно было бы считать террористами. Пострадали от этих поправок люди, относящиеся к протестантским организациям, либо к новым религиозным движениям. О йоге можно спорить, насколько она религия или не религия. Просто они стали жертвой, потому что до этих организаций проще всего добраться. Если ловить реальных террористов и экстремистов, можно пострадать при этом, а тут люди открыты, и они действительно занимаются миссионерской деятельностью, поэтому проще всего преследовать их, чтобы отчитаться. Йог попал под раздачу, если уж кришнаитов можно, то почему йогов нельзя? Дело в отношении Дмитрия Угая, оно было закрыто в начале 2017 года. Мне кажется, это во многом вызвано невежеством правоприменителей, которые плохо различают сектантов между собой. Если уж йог, он же не традиционный какой-то, явно не православный, почему бы его не подвести под эти поправки? Дело в том, что сами поправки настолько невнятно сформулированы, что уже на стадии их принятия было понятно, что трактовать их можно как угодно, и злоупотреблений будет много. Практика это подтвердила.
С.Е: У нас много принимается законов, которые могут сподвигнуть на такой вопрос, а что там такого принимают депутаты? И такие пробелы, когда закон можно и так, и так, в любую сторону. Что это, безалаберность? Или государству нужно держать под контролем все эти «секты»?
О.С: Я не знаю, насколько им нужно держать их под контролем, потому что уже существовавшее на тот момент законодательство уже регулировало деятельность всех религиозных организаций. А у тех, кто сейчас попал под преследование, они не нуждаются в особом контроле, потому что это люди, как правило, мирные, безопасные. Уж, казалось бы, за что преследовать кришнаитов, за что преследовать протестантские организации, верующих, которых не пьют и не курят? Это абсолютно послушные и не представляющие угрозу общественной безопасности люди, поэтому говорить о необходимости держать их под особенным контролем, конечно, не приходится. Бытует мнение, что сектанты опасны. Секта — это такое ругательство, которое подразумевает какую-то страшную организацию. Никто же не разбирается, чем эти люди занимаются в действительности.
С.Е: Получается, что наши законотворцы следуют каким-то стереотипам? Странно.
О.С: Они же тоже люди.
С.Е: Они люди с особым статусом, от решений и их мировоззрения во многом зависит, как дальше будет идти жизнь в стране. Получается, что они ставят во главу угла стереотипы. Это не совсем верно все-таки.
О.С: Это не совсем верно, но они не считают это стереотипом. Они искренне в этом убеждены, я думаю. Но к разработке этих проектов должны привлекаться люди, имеющие соответствующие образования. Не каждый депутат обязан иметь религиоведческое образование, это правда. К сожалению, люди, которые могли бы им помочь, не привлекаются к разработкам подобного законопроекта.
С.Е: Если честно, по моему мнению, это выглядит не как борьба с терроризмом, а некая борьба с инакомыслием. Есть тут такой вариант, что эти все секты, помимо теоретической опасности, нагнетают обстановку, в умы людей загружают информацию против государства? Может быть, это боязнь какого-нибудь восстания? Может, они решили, что какая-нибудь секта станет оплотом революции?
О.С: С момента, когда произошла оранжевая революция на Украине, тогда в антисектантской риторике в России появился этот момент, когда деятельность протестантских организаций связывали, ну поскольку один из украинских лидеров протестант, как раз подозревать стали все российские протестантские организации в том, что они разносчики этой оранжевой чумы. Разумеется, это не так. В большинстве своем, это достаточно консервативные люди и законопослушные.
С.Е: Видимо, такой ответ, вот она и причина всех таких поправок.
О.С: Безусловно, это одна из причин.
С.Е: На самом деле, не только именно против сектантов так. У нас многие политологи отмечают, что именно боязнь оранжевых революций в России, она влияет на многие решения, принимаемые руководством страны, и сектанты сейчас — один из таких слоев общества, которые попал под раздачу.
О.С: Вполне возможно, но на практике принимаемые меры вряд ли могут защитить от ужасного Майдана. Скорее они могут разозлить людей, подвергающемуся такому совершенно не обоснованному давлению. И из законопослушных людей они могут их превратить в оппозицию, а кого-то загнать в подполье.
С.Е: А если даже в случае с историей йога, там общество было на стороне Дмитрия в основном, редко встречались противники. А вот совершенно недавние события 2017 года, но они начались, как я понимаю, раньше. Это временный запрет деятельности «Свидетелей Иеговы»*. Я даже сам следил в интернете, тут общество разделилось. Кто-то говорил: «Да, наконец-то они перестанут стучать в дверь и предлагать поговорить о боге». Другие говорили: «Ну что вы? Ну пусть ходят, они же безвредные. Просто не открывайте дверь». Это первая единица столкновения интересов. Что тут можно сказать об этом?
О.С: Давление на «Свидетелей Иеговы»* началось не сегодня. Вот антигосударственной кампании, направленной против этой религиозной организации, ей уже лет 8−9, боюсь ошибиться, примерно столько. Их преследуют в рамках антиэкстремистского законодательства, что очень смешно. Эти люди точно никак не относятся к террористам.
С.Е: Вы имеете в виду, что у них литература экстремистская?
О.С: То, что их задерживали постоянно, что запрещали их литературу. Это постепенно нарастало, нарастало и нарастало. И в 2016 году были запрещены 5 религиозных организаций в регионах, местных религиозных организаций. В конце года Минюст обратился с иском о запрете централизованной религиозной организации, вот уже на днях этот суд должен состояться. К сожалению, есть основания полагать, что, скорее всего, этот иск будет удовлетворен. Я затрудняюсь сказать, сколько у нас «Свидетелей Иеговы»* по России, но этот счет идет на сотни тысяч граждан, которые окажутся вне закона. Если объявить религиозную организацию незаконной, верующие не исчезнут, они веру свою не изменят. Эти люди будут существовать, они просто не смогут открыто исповедовать свою веру. Отношение к ним общества, честно говоря, для меня загадка, хотя я давно занимаюсь проблемами свободы совести и наблюдаю эту картину. Я не могу понять, почему именно они вызывают такую негативную реакцию у общества и чиновников. Конечно, у них оригинальный способ миссионерства. Они ходят по квартирам, конечно, это кому-то может казаться неприятным, но, как вы правильно заметили, им можно просто не открыть дверь, можно просто сказать, что вам не интересно, и они не будут приходить. Это все очень просто, не нужно вызывать полицию, не нужно применять физическую силу, они понимают слова и готовы учесть ваше мнение и не навязывать свою литературу и веру. Пацифизм их, и в других организациях есть верующие пацифисты, но я не понимаю, почему именно они были выбраны, потому что иностранное происхождение имеют не только они, но почему-то они стали такими мальчиками для битья в буквальном смысле. Да и поддержку общества они находят крайне редко.
С.Е: Даже не мальчиками для битья, а козлами отпущения больше. А не складывается такого ощущения, что когда все эти секты будут побеждены, государство займется не просто такими религиозными объединениями, а вполне себе целыми конфессиями, дойдут до ислама и других религий? И постепенно будут оставлять только православие.
О.С: Знаете, я говорила об этом, когда мы представляли доклад. Если говорить о миссионерских поправках, они сейчас применяются в отношении нетрадиционных организаций, но это не значит, что их не захотят применить ко всем остальным. Я даже хорошо представляю себе схемы, как их можно применить к тем же мусульманским организациям. Например, в предыдущие годы мы отмечали такие ситуация, когда 2 местные организации мусульманские в одном регионе относятся к разным общинам, имеют разную юрисдикцию. И вот власти поддерживают только одну из них. Например, антимиссионерские поправки очень удобны в этой ситуации, чтобы обвинить неугодную властям организацию, относящуюся к вполне традиционной конфессии, и преследовать ее с помощью этих поправок. Я хорошо представляю православные общины, которые активные, и эта активность не нравится светским властям, либо церковным, такое тоже бывает, и прекрасно можно применить это законодательство к ним. В условиях такого избирательного правоприменения ни одна организация, даже если она сейчас пользуется поддержкой властей, не застрахована от давления. Тут вы совершенно правы.
С.Е: Получается, что государство просто с помощью этих поправок может обеспечить себе исключительно такое общество, которые поддерживает исключительно действующую власть, как церковную, так и государственную? Чем-то напоминает эпизод из истории с крещением Руси. Когда, чтобы объединить все раздробленные княжества, им нужно было дать одну религию. Только тут религия переплетена с политикой. Такой симбиоз получается.
О.С: Государство давно идет по этому пути, но, как известно, что это никогда не заканчивалось так, как рассчитывали разработчики подобных законов. Как я уже говорила, ликвидация какой-то организации не ликвидирует верующих. Если только их не отправить в лагеря, но при таком количестве это невозможно. И мы проходили этот опыт в советское время. Верующие выжили, сохранили свою веру, и все организации продолжили свое существования на подпольном уровне, поэтому подобная тактика ничего, кроме озлобления, не вызовет. Даже если на законодательном уровне, на каком-то внешнем уровне провести такие зачистки, то все равно ничего не изменится, власть приобретет оппозицию в лице многих религиозных организаций.
С.Е: Получается, что какой-то тупиковый путь власти избрали. В этой истории, получается, что не малую роль сыграет и РПЦ. С каждым годом она все большую роль играет. В этом году эти истории начались, много негативных историй, которые воспринимаются негативно светским обществом. Дело в том, что РПЦ регулярно объявляет свои претензии на те или иные здания и сооружения. Тут достаточно вспомнить две самые яркие истории, это Исаакиевский собор и театр кукол, это далеко не все. Если посмотреть и проанализировать, то с годами РПЦ все более смелее себя чувствует? Все безнаказанней? Как правило, сейчас власти с трудом отказывают представителям церкви в их желании.
О.С: Тут ситуация немного иначе выглядит. Просто с того момента, как религиозные организации получили возможность получать здания, когда-то принадлежавшие им, поначалу был такой всплеск, когда они стали подавать заявки на получения тех или иных зданий. Это продолжалось несколько лет, но последнее время количество передач уменьшилось. В прошлом нашем докладе мы приводили мнение человека, отвечающего за это, и действительно, стало меньше фактов передачи. Просто религиозные организации, получает не только РПЦ, поэтому я буду говорить о всех, они получили столько имущества, с которым они не могут справиться, его же нужно содержать и поддерживать, что хотели, то они уже получили. Сейчас процесс уже сходит на нет. Сейчас для РПЦ интерес представляет уже не любое имущество, а как раз знаковое. Это музейные здания, памятники культуры, которые интересны тем, что они в хорошем состоянии, там не очень нужно вкладываться. Во-вторых, это памятник культуры, и министерство культуры будет частично продолжать содержать, денег на здание будет затрачиваться не так много. А само здание, оно статусное, очень приятно иметь Исаакиевский собор в собственном управление. И естественно, это очень перспективно в финансовом плане, потому что, если это туристический объект, то перенаправить этот поток денег от туризма из государственного бюджета в бюджет РПЦ очень заманчиво. Такие истории у всех на слуху, они получили резонанс, и кажется, что аппетиты возросли и так далее. Если брать количественно, то количество переданных зданий, их не много, просто на слуху эти громкие случаи.
С.Е: Вот именно, тут надо как-то оценивать, либо по количеству, либо по качеству. Если по качеству, то РПЦ вызовет недовольство в итоге. Если количество, то там какие-то небольшие помещения, то окей.
О.С: Ну да, сельские храмы полуразрушенные, они уже не нужны. Ресурсов на их восстановление нет, нет людей, которые туда будут ходить, нет людей, которые будут его восстанавливать. А особняк в центре Москвы, это уже приятно.
С.Е: Еще одна, скажем так, статья, и посвящена в докладе отдельная глава даже, это оскорбление чувств верующих. Как только в 2016 году чувства верующих не оскорбляли. Это не перечесть. От того, что ловили покемонов в храме, до невообразимых вещей. Верующие в 2016 году стали очень чувствительными. Это правда?
О.С: Они остались примерно на том же уровне чувствительности, что и раньше. Просто немного изменилась ситуация с защитой этих самых чувств. Вот закон о защите чувств верующих, это обиходное название. Там поправки в разные законы. Прямо такого закона не существует. Есть ряды поправок в разные законы, которые направлены на защиту чувств, но в обиходе называют так. После вступления в силу этого закона, это было 2−3 года назад, довольно долго он не применялся никак. Закон приняли с шумом, поводом для него стала история с Pussy Riot. После этого был принят закон, защищающий чувства. Шумиха эта прошла, а закон на практике не применялся. Только с прошлого года мы стали отмечать случаи применения новой редакции 148 статьи УК для защиты чувств верующих. А в этом году, в 2016 таких случаев стало гораздо больше. Очень охотно люди применяют эту статью, хотя там повод может быть довольно мизерный, но в тоже время, если в 2015 году оскорбленные верующие считали возможным защищать свои чувства, уже начавшееся применение УК для защиты их чувств, считали возможным применять силу. Было огромное количество акций протеста оскорбленных верующих против оскорбивших их спектаклей, концертов, выставок и так далее. Эти верующие не стеснялись пойти и погромить то, что их оскорбило. В 2015 году в Новосибирске были избиты посетители и охранник клуба, которые пришли на концерт. Громкий случай был в Москве, когда на юбилей радиостанции «Серебряный дождь» ворвался батюшка, сотрудник синодального отдела, и тоже применили силу. В 2016 году мы таких случаев не зафиксировали, чтобы кого-то избивали. Таких случаев стало меньше. Я думаю, что это связано не столько с увеличившимся количеством применения уголовного законодательства для защиты религиозных чувств, сколько меры, принятые по отношению к членам «Божьей воли», которая в свое время разгромила Манеж, и, видимо, совершено не ожидала, что они понесут наказание. Помимо административного наказания, они понесли уголовное преследование. Было возбуждено дело. Дело в итоге было закрыто, но люди поняли, что лучше не рисковать. И в 2016 году они были сдержаны в своих оскорбленных чувствах.
С.Е: Дмитрий Энтео отметился, наверно, больше в своих высказывания в соц. сетях, чем какими-то реальными действиями. Но при этом все равно появляются такие истории, во многом они даже курьезные. Например, вспомнить историю в поселке Боголюбово Владимирской области, где верующих не устроило то, что предприниматели хотят открыть завод по производству презервативов недалеко от храма. Они устроили целую массовую кампанию. Конечно, там можно говорить о том, что это была какая-то пиар-акция, но как эти несколько женщин, которые там активизировались, они собирали какие-то подписи, как они там воевали. Закрадывались мысли, что это граница с фанатизмом, что это даже не вера и религия, а какое-то маниакальное желание отстоять свои ценности.
О.С: Вера, она разная бывает, но правда в том, что эти протесты привлекают внимание к нежелательным, с точки зрения верующих, ну кто бы пошел на концерты этих групп? Они имеют очень узкую аудиторию, и все эти бегемоты, батюшки вызывали протесты, но туда пришло бы несколько десятков человек, которые и так знают эти группы, и сомневаюсь, что они собрали бы большие залы. А после таких протестов, естественно, гораздо больше людей о них узнали, и, может быть, заинтересовались этим направлением музыкальным. Это действительно парадоксальный факт, который достаточно очевиден, и почему люди, если они искренни желают остановить эти кощунственные произведения искусства, почему они делают именно так? На самом деле, они, видимо, это поняли после истории с запретом рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», но это такая проверенная красная тряпка для верующих. В конце концов, их одернул их патриарх, он попытался объяснить, что они неправы. И один из главных организаторов акции протеста Роман Плюта высказался в том духе, что давайте не будем устраивать акции протеста и привлекать излишнее внимание.
С.Е: Ольга, еще один случай по оскорблениям чувств верующих, и будем дальше двигаться. Я бы этот случай выделил, потому что оскорбление чувств верующих было ни к чему. У нас есть праздник 1 мая, День труда и весны, он с церковью никак не ассоциируется, он с советских времен отмечается. Каким образом тут вроде православные, тут трудящиеся выходят, тут радость, цветы, весна. И 1 мая в городе Новосибирске уже по традиции нескольких лет собрались проводить монстрацию, красочное шествие. И тут вдруг выступают православные активисты и говорят, что на 1 мая эта монстрация задевает их чувства, и просят все отменить. Казалось бы, причем тут религия? И самое интересное, что к ним прислушиваются.
О.С: Там как раз монстрацию не отменили. Дело в том, что подобные протесты, как правило, не возникают стихийно. В разных регионах есть ряд групп православных активистов, которые занимаются организацией подобных протестов. Они действуют на протяжении многих лет. Сейчас как раз очень удобно, поскольку есть соответствующие нормативные акты, позволяющие регулировать защиту чувств верующих, и они жалуются на оскорбления чувств. Но эти же люди могут выступать под флагом борьбы за нравственность, например. Они защищают от других угроз общественную безопасность. Это противоречит нашим нравственным ценностям, нашим традиционным ценностям, церковь же выступает за сохранение наших традиционных ценностей, поэтому монстрация, может, она там как-нибудь развращает молодежь, учит чему-нибудь плохому, поэтому это все идет в одном ряду с защитой чувств верующих.
С.Е: Ну что же, тут еще много тенденций, просто время ограничено, поэтому будем дальше переходить. Ольга, хотелось бы услышать ваше мнение, если открыть доклад, есть там такая глава «Положительные решения», если оценивать по объему то, это 4 абзаца. В масштабах доклада очень это очень мало. Неужели все настолько беспросветно в России?
О.С: Положительные решения мы отмечаем в нескольких главах. Это относящиеся к определенному разделу, там могла идти речь о положительных решениях о проблемах с храмами или случаях дискриминации. В целях экономии времени, и чтобы на мелких вещах не концентрироваться, я просто скажу о том, что мы отмечаем в качестве положительных моментов. Это юридическая грамотность протестантских организаций, потому что они дольше других подвергаются давлению, они просто были вынуждены юридически образовываться для самозащиты. Благодаря тому, что сейчас в религиозных организациях есть юристы, они могут защищаться от каких-то дискриминационных действий чиновников. Мы уже второй год констатируем, что почти нет случаев проблем с использованием храмов у протестантских организаций. Просто несколько лет назад это было большой проблемой, когда мы рассказывали о проблемах использования храмов религиозных организаций, то у нас самыми пострадавшими оказывались протестантские организации. Сейчас таких случаев очень мало. Люди научились себя защищать, и чиновники с этим считаются. Еще положительный момент, это опять же больше относится к историям со строительством храмов, но и защиты чувств верующих тоже. В ряде случаев людям удается добиться благодаря самоорганизации, благодаря каким-то слаженным действиям в юридической защите и не давать застраивать их паству, когда на то нет никаких законодательных оснований. Власть начинает потихонечку к ним прислушиваться тоже, это мы считаем положительным моментов, когда им удается защититься от такого покровительственного отношения властей к религиозным организациям. Вот таких случаев тоже становится больше, но по крайней мере, большинство граждан не готовы это терпеть.
С.Е: Получается, что если подводить итоги 2016 года в сфере отношений религии и общества, то, по сути, эти отношения складываются из противоречий. По прогнозам на 2017 год, что дальше будет?
О.С: Я не могу сказать, что я выдающийся прогнозист. Мне кажется, что очень многое будет зависеть от политической ситуации. Как и в случае с Исаакием и другими громкими скандалами, если протесты были достаточно массовыми, то власти начинали к ним прислушиваться. Тут все зависит от того, насколько будут сильны протестные настроения, насколько власть будет видеть опасность в деятельности граждан, потому что надо понимать, что верующие люди в первую очередь граждане своего государства. Если чиновники захотят идти на дальнейшее сближение с церковью, если церковь не будет видеть в этом опасность, то будет одна ситуация. Если кто-то поймет, что такое сближение опасно, то будет другая ситуация. Если люди будут защищать себя достаточно активно, значит, продавить совсем дискриминационные меры будет сложно. Когда и какая чаша будет перевешивать, мне сложно сказать.
С.Е: Неужели только с помощью протестов можно выровнять ситуацию? Неужели она сама устаканиться не сможет? Почему у нас все через протесты решается? Может быть, люди наконец-то поймут, начнут законы по-другому рассматривать? Начнут более избирательно подходить к сектам, будут стараться задуматься перед тем, как говорить о том, что нужно закрыть выставку или концерт? Почему обязательно протесты?
О.С: Я думаю, что с выставками и концертами ситуация имеет больше шансов выправиться, чем-то, что к так называемым сектантам начнут относиться более лояльно. Мне кажется так.
С.Е: Ольга, спасибо большое, что присоединились к эфиру. К вам было бы очень много вопросов, с вами было бы здорово поговорить еще часик, но, к сожалению, время эфира ограничено. Большое вам спасибо. Надеюсь, не последний раз слышимся с вами в эфире. До свидания.
О.С: Спасибо вам.
С.Е: Было бы интересно узнать, как общество относится к подобным историям, как общество настроено, поэтому мы обратились за помощью в исследовательский центр «Левада». Сейчас на связи со студией радио СОЛЬ Карина Пипия, социолог «Левада-центра». Карина, здравствуйте.
Карина Пипия: Добрый день.
С.Е: Карина, прошлый год был достаточно заметным в плане взаимоотношений религиозных организаций и общества. Как мы уже говорили в начале эфира, это антимиссионерские поправки в пакете Яровой, это истории с претензиями РПЦ ко многим зданиям, это различные оскорбления чувств верующих. Вот со стороны общества, как в 2016 году общество относилось к религиозным организациям, в целом к религии, как воспринимало все эти истории, которые происходили у них на глазах?
К.П: На самом деле, отношение к религии и церкви в целом в 2016 году не изменилось, если сравнивать с 2012 годом. У нас традиционно церковь лидирует в топе институтов, которым россияне более всего доверяют. Доверяют у нас больше всего президенту, армии и церкви. Так продолжается значительный период времени. С другой стороны, мы видим реальный рост религиозной самоидентификации населения, число россиян, которые называют себя православными, достигает 80 процентов. Но с другой стороны, не нужно эту самоидентификацию продуцировать на какое-то реальное поведение, потому что когда мы копаем глубже и задаем вопросы, нацеленные на выявление именно религиозности, каких-то следований религиозным практикам в реальном поведение, то увидим, что там эти цифры меньше, и мы видим, что православие носит некий магический, символьный характер, нежели оно перетекает в практическое поведение. С другой стороны, вы говорили о законах, которые так или иначе касаются концепта православия и церкви. По данным общественного мнения, мы видим, что россияне эти законы в большей массе поддерживают, более 50% в 2013 году одобряли принятие закона, защищающего чувства верующих. С другой стороны, мы видим, что когда мы пытаемся понять, а что стоит за этой поддержкой, почему россияне одобряют этот закон, то мы увидим, что для половины россиян православие и церковь выполняют роль поддержки общественной морали и нравственности. Это укладывается в консервативный поворот, который общество отмечает с 2012 года, когда растет какое-то неприятие, с одной стороны, каких-то антиправославных вещей, с другой стороны, мы видим, был же и запрет на пропаганду традиционных отношений. Все это тянется с 2012 года, а в 2016 году существенных изменений в отношении этого вопроса мы не наблюдаем.
С.Е: Смотрите, если говорить конкретно про оскорбления чувств верующих, закон был принят после памятного выступления Pussy Riot, долгое время он был. Существовал, но не применялся. Только с 2015 года он стал активно применяться, и за это время число людей, которые были осуждены, приговорены к штрафу, заметно выросло. Неужели даже вот этот факт, что фактически, выйдя на улицу, и кто-то подслушает твой разговор, где ты нелестно отзываешься от церкви, нажалуется на тебя, и тебя осудят за то, что ты что-то плохое сказал. Неужели этот факт никак не отразился на одобрении этого закона?
К.П: Нет, существенным образом оно не изменилось. Понятно, что есть категория людей, стоит подчеркнуть, что жители Москвы более негативны к этому закону, чем другие категории населения, хотя какой-то значимой социальной дифференциации мы не имеем. А что касается изменений, учитывая контекст последних двух лет, говорить о том, что россияне стали более рационально относиться к восприятию этого закона, мы не можем. С одной стороны, не стоит забывать, что для более 80% основной источник информации — это телевизор. По этому телевизору эта тема не раскручивается и не показывается, там усиления репрессивных законов и реальное их применение не доступно для большей части населения, поэтому острого негатива к этой теме не имеем. В целом, если смотреть на те проблемы, которые реально волнуют население, за которыми они хоть как-то пристально следят, то какой-то религиозный фанатизм, экстремизм, он будет в самом конце этих проблем, которые интересны населению.
С.Е: Вы можете объяснить такую позицию, что, как вы говорили, нечасто по телевизору показывают людей, которые осуждены за оскорбление чувств верующих. Есть случаи с протестами 26 марта. Можно объяснить, почему это не показывали по центральным каналам. А почему тут так? У нас же есть какой-то некий курс, 80% жителей называют себя православными, есть спрос на религии, на религиозные ценности, а тут вдруг так. Чем это можно объяснить?
К.П: Это нужно спрашивать у владельцев СМИ, почему они этого не показывают. На самом деле, тема религии, межнациональных отношений в нашей стране, она очень острая и чувствительная, поэтому любое ее освещение всегда аккуратно. Делать какие-то дополнительные волнения со стороны СМИ, которые так или иначе уже приняты, это нелогично. Думаю, что люди, которые принимали этот закон, не будут особо это приветствовать. Зачем какие-то проецировать волнения таким образом? Ну, понятно, что есть интернет, есть значительная часть людей, которая может узнать об этих случаях из интернета. Если мы посмотрим мнение интернет-пользователей и сравним его с мнением в целом россиян, мы увидим, что они будут настроены более негативно. Все наши последние опросы, которые касались разделения партии телевизора и партии интернета, условно говоря, мы видим, что постепенно различия между ними стираются. Например, даже одобрение каких-то мер, направленных на интернет-цензуру, оно высоко даже среди интернет-пользователей.
С.Е: Стирается в сторону уменьшения интернет пользователей, как я понял?
К.П: Нет, интернет аудитория не уменьшается, просто поляризация мнения сужается. И доминирует в одну сторону.
С.Е: Самый яркий пример, который вызвал множество дискуссий, что касается религиозной почвы, который мог сподвигнуть, тут как раз именно спор в том, что мог или не мог сподвигуть межконфессиональный скандал, это случай с няней, Гюльчехрой Бобокуловой, которая убила 4-х летнюю девочку. Тогда федеральные каналы никак эту историю не освещали, там было пара репортажей весьма отстраненных. Это самый яркий пример, просто для радиослушателей поясню. Тут очень много споров было, что стоит или не стоит, цензура или не цензура. Если говорить, то как в регионах это все воспринимается? Там ведь восприятие несколько по-другому идет. Вы уже упоминали, что в Москве больше негатива в отношении этого закона.
К.П: Да. Консервативный поворот в Москве находит меньшую поддержку, чем среди жителей сел, в которых официальные дискурсы больше ими поддерживаются. В силу того, что люди в значительной степени, у них ниже интенсивность жизни социально значимой, чем у жителей Москвы.
С.Е: А в отношении пакета Яровой, в частности, антимиссионерских поправок и последующих за ними решений, вроде последнее решение, когда Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы»*. Это как воспринимается?
К.П: Непосредственно про этот случай мы еще не спрашивали, но мы спрашивали в 2016 году вообще в целом про этот антитеррористический пакет. И увидели, что практически 2/3 населения про него вообще ничего не слышали и не следили за его принятием. Проблема этих мер, направленных на экстремизм, они не составляют значительную часть обыденной жизни россиянина. Его волнуют совершенно другие проблемы. С одной стороны, получается, что люди не знают, что принимается, а с другой стороны, поскольку последние три года мы видим достаточно высокую лояльность к власти, к мерам, которые она принимает, то мы получаем достаточно высокий уровень одобрения законов, в которых россияне не очень сильно разбираются. А что касается «Свидетелей Иеговы»*, это уже не новость, мы видим на протяжение последних 5 лет, как рос негатив и нетерпимость к этой категории населения. Она среди россиян достигает практически 50%, если мы посмотрим на данные 1990-х годов, то увидим, что население к этой категории людей было более терпимо. Там каждый второй говорил, что нужно оставить их в покое, пусть они продолжают свою деятельность. Сейчас все по-другому.
С.Е: А как вы думаете, вы в первую очередь говорили о том, что 2/3 общества даже и не знает, что такое пакет Яровой, и не следило за тем, что он принят. Как вы думаете, это проблема общества, что они не следят за этим, или это государство намеренно делает так, чтобы какие-то важные вещи, которые действительно могут повлиять на жизнь, специально получается так, чтобы общество об этом не узнало? Почему это выгодно?
К.П: С одной стороны, не стоит забывать, что если человек чего-то хочет, то он это узнает. Не стоит забывать про интернет, если бы большая часть хотела бы узнать, она бы узнавала из других альтернативных источников. Но судя по нашим данным, интерес к разнообразным мнениям, разнообразным источникам, он достаточно низок. С другой стороны, вы говорите о том, что виноваты СМИ, что не показывают этого и не объясняют этого. У населения у самого интерес пока не выражен. Их в повседневной жизни волнуют совершенно другие проблемы.
С.Е: Исходя из опыта, из ваших различных исследований, вы можете сказать, будет ли меняться отношение россиян к таким острым темам, как закон об оскорблении чувств верующих? Будут ли люди больше искать информации и меньше обращаться к телевидению?
К.П: Это на самом деле сложный вопрос. Если те тенденции, которые сейчас сохраняются, как я уже говорила, это в первую очередь такое сильное сближение мнений, снижение популяризации, если все останется так, как есть, то причин, по которым россияне станут проявлять интерес к этой теме и начнут больше интересоваться, скорее всего, их не появится. Должны появиться лидеры мнений, люди, которые могут и захотят пытаться все это доносить о реформировании социальных институтов.
С.Е: У нас время эфира подходит к концу, спасибо, что нашли время и дали нам комментарий. Спасибо, до свидания.
На связи со студией радио СОЛЬ была Карина Пипия, социолог «Левада-центра», которая комментировала доклад «Религия в светском обществе» со стороны исследований, со стороны отношения самого общества к религии и отдельным проявлениям этого взаимоотношения. Это была программа «Угол зрения». У микрофона был Сергей Егоров. До новых встреч в эфире.
* Организация, запрещенная в России.










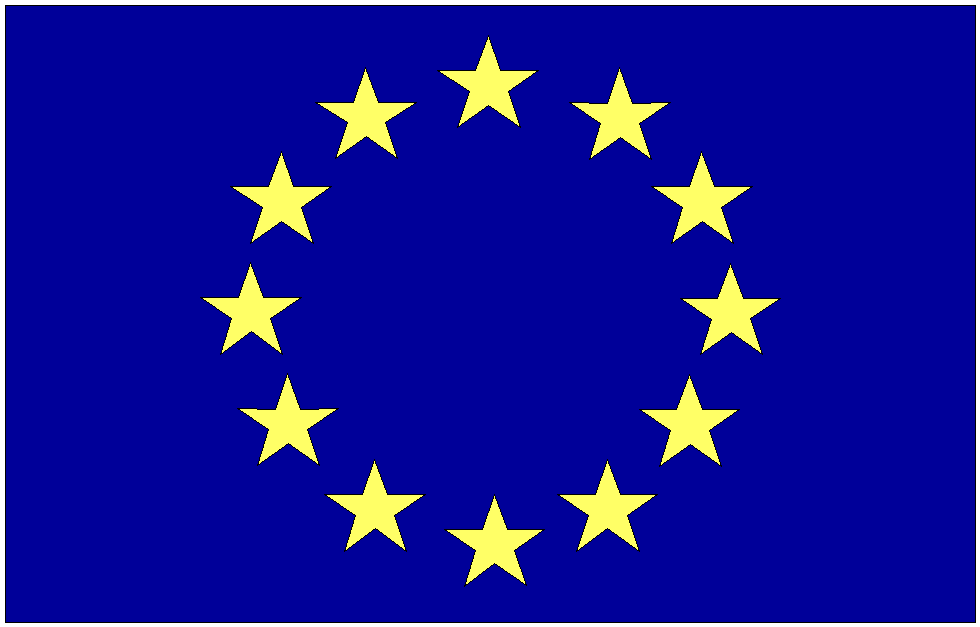 При поддержке Европейского Союза
При поддержке Европейского Союза
