*Техническая расшифровка эфира
Яна Крюкова: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Угол зрения», у микрофона Яна Крюкова. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. К нам в гости пришел поэт, блоггер и путешественник-автостопщик, к тому же еще и преподаватель английского языка Алексей Федяев.
Алексей Федяев: Привет-привет!
Я.К.: Расскажу сразу, что этот молодой человек ездит автостопом по стране, знакомится с людьми, изучает города и рассказывает неожиданные истории из своих приключений, читая свои стихи и делясь своим настроением и мироощущением. В этом году он проехал на попутках через всю Россию, от Москвы до острова Сахалин. Это почти полгода в пути и 16 городов. Очень приличные получаются расстояния, 16 тысяч километров.
А.Ф.: Да, я посчитал чисто по Google: если от центра города до центра города все мои отрезки посчитать, то получается 15 595 километров.
Я.К.: Мой первый вопрос — как ты вообще на это решился? Авантюра редкостная же!
А.Ф.: У меня есть один друг в Москве, очень крутой поэт Олег Швец. И он меня научил одному правильному ответу на любой подобный вопрос: как, зачем, почему, ради чего, куда. Правильный ответ — потому что могу. Я с этим очень согласен. У меня в жизни, наверное, некая неприкаянность случилось. Я, что называется, ищу себя. Это немного удручает, хочется уже найти, все-таки 24 года, завтра помирать. Хочется определиться, какую-то мало-мальскую стабильность в жизни иметь. А пока стабильность не нашел такую, чтобы она меня устраивала, не удручала. Чтоб я не сидел в унынии в четырех стенах, я решил: а чего бы не сделать то, что я могу, что у меня получается. Я когда-то в 2013 году попробовал проехаться автостопом, при помощи автостопа и краучсерфинга путешествовать, у меня получилось. Я на тот момент уже выступал со своими стихотворениями в Москве. Пока я ездил, у меня накопились истории, которыми мне хочется делиться вне рифм. К 2016 году получилось такое путешествие как квинтэссенция всего, что я собрал за последние 4 года. Изменилось само путешествие, оно увеличилось в масштабах. Раньше я ездил на 14−15 городов на месяц. Теперь я еду на 5 месяцев через 40 городов, через всю страну. Плюс у меня появилась, скажем так, культурно-развлекательная программа, которой я могу радовать зрителей. Для меня это способ познакомиться с как можно большим количеством людей. Это один из важнейших приоритетов в моем путешествии, чтобы в будущем, когда мне будет 30, 40 лет, я смог утверждать, что на каждый квадратный километр нашей страны у меня есть по другу. Можно продолжить эту мысль и спросить: «А зачем тебе это, Леш?». И вот на этот вопрос мне уже будет сложнее ответить. Просто так получилось, потому что могу. У людей разные ценности. Кто-то хочет заработать как можно больше денег. Ему можно задать вопрос: «Зачем?». Он ответит: «Хочу машину дорогую купить». Опять спрашиваешь: «А зачем?». И все равно упрешься в какой-то вопрос «зачем?», на который уже не будет ответа. У меня примерно так же, только без денег и машин, а с городами, людьми, блогами, стихами и путями.
Я.К.: А как ты выбирал города, в которые хочешь поехать?
А.Ф.: Когда-то я собирался путешествовать по Америке. В 2013 году мне отказали в визе, к сожалению.
Я.К.: А может, к счастью?
А.Ф.: На тот момент я думал, что к сожалению. Сейчас да, понимаю, что к счастью, потому что я не смог бы заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Мне отказали в визе с очень странной формулировкой: «Вы неразвиты социально». Я тогда ответил: «Почему? У меня много друзей!». Они хотели от меня какой-то стабильности, привязки к родине. Не знаю, какие могут быть привязки к родине в 20 лет. Я сказал, что я студент бюджетного государственного ВУЗа, я приеду доучиться. На что мне сказали, что «мы вас не знаем, что ли? Ни фига вы не вернетесь». Я принес какие-то документы, что являюсь прямым наследником своей матери, у которой здесь дача, квартира, машина, — «Не-не-не, это же не вы, это мать». Мне отказали в визе, и я решил: а пошли-ка вы к черту! Я буду путешествовать там, где мне ни визы, ни билеты не нужны. Избрал этот способ, максимально от билетов далекий. Я попробовал, мне понравилось, у меня получилось. Когда я понял, что буду путешествовать по России, логика была такая: «я хочу объехать все!». Но мы живем в самой большой стране в мире, объехать все довольно сложно. Слово «все» тут можно сузить до городов, потому что я урбанист все-таки. Я понимаю, что наша страна богата всякими красивыми природными штуками — Байкал, Алтай, Карелия. Но мне интереснее городская среда, гулять по дворикам и закоулкам, в них я себя комфортнее чувствую, чем сидя на берегу озера. Если я буду сидеть на берегу озера, даже очень красивого, для меня это будет уже такой туризм, нежели путешествие концептуальное.
Я.К.: Ты публикуешь в соцсетях фотографии интересные: надписи какие-то в подворотнях, стритарты. Почему привлекает?
А.Ф.: Понятия не имею. Просто это во мне сидит. Мне нравится концептуальный вандализм, мне нравится входить в город и чувствовать, о чем здесь говорят и шутят. Мне нравится еще за какой-то мелочью — надписью, рисуночком, предметом каким-то — видеть историю: почему именно этот предмет? почему эта надпись именно здесь? Иногда это просто разрывает шаблоны. Ты видишь надпись и не понимаешь, как человеку пришло в голову именно тут именно эту надпись сделать. Он тратил свои пять минут, свой маркер, к тому же, это не всегда легально. По Курску иду я и вижу надпись: «Колобки догоняют потерянного слона». Вот что это? Откуда? Я-то, конечно, понимаю, что, скорее всего, это краткий пересказ в одно предложение советского мультфильма «Следствие ведут колобки». Но мне бы не пришло в голову на улице пересказывать свои любимые советские мультфильмы. Эта загадка, мистерия мера радует. Сидя на берегу озера сложно мне будет такую загадку найти и делиться с людьми. Собственно, про города. У нас много городов, мы живем в самой большой стране мир. Яна, вот ты знаешь, сколько у нас городов в России?
Я.К.: Наверное, больше тысячи.
А.Ф.: Это максимально близкий к правильному ответ. Если ситуация не изменилась за последний месяц, то 1113. Второй вопрос, которым я задался, сидя у себя дома, на окраине Москвы, я проживаю в районе Бибирево, — это сколько человек проживает в Бибирево. Таких районов у нас больше сотни. 160 тысяч человек проживает в одном районе, если верить Wikipedia. Третий вопрос, которым я задался, объединяющий первые два, — в скольких городах России проживает больше людей, чем в одном районе Москвы. Из 1113 — всего лишь в 112. В тысяче городов население меньше, чем в одном районе Москвы Бибирево. Я решил, что эти 112 городов — это программа минимум, это тот костяк, который я должен посетить. Если я их посещу, то можно будет сказать, что я поездил по России. Такой концепт я себе придумал, это моя личная история. Я решил, что должен составить маршрут через всю страну на восток, до Сахалина. Все города, которые у меня были по пути, они подходили под этот концепт и вошли в маршрут. Есть несколько городов, которые не подходят, они меньше, чем Бибирево. Они входили по разным причинам. Допустим, если город - столица региона. Или у меня есть еще очень милая история, я очень надеюсь, что она оправдается. У меня есть такой кусок трассы — Чита-Хабаровск, между которыми 2200 км. Для меня это очень много, потому что я путешествую без палатки, я еду со вписки на вписку, от города до города. Четырехзначное количество километров меня пугает. Было бы 900 км, мне было бы не страшно, я знаю, что засветло я доеду как-нибудь. Я понял, что мне нужно разбить этот отрезок, а городов больших нет. Я нашел городок ровно посередине. Он называется Сковородино, находится у поворота на Якутск. Я «Вконтакте» забил — жители города Сковородино. Из 8 тыс. жителей «Вконтакте» нашлось 2 тыс. Я не знаю, на что я надеялся, я просто сижу и листаю этот список. И вдруг вижу: бородатый парень на аватарке, и у него в графе «Место работы» указан его именной паблик, то есть, видимо, он выкладывает какое-то творчество. Захожу. Вижу приличное количество подписчиков, больше тысячи, для Сковородино это прекрасно. Он пишет и выкладывает стихи. Я умудрился в Сковородино найти бородатого поэта! Меня это очень удивило, я тут же добавился в друзья, сказал: «Чувак! Мы просто обязаны дружить, познакомиться, когда я поеду, надеюсь, у тебя получится меня вписать». Он отреагировал: «Да, конечно, обязательно, все будет хорошо». Это было уже довольно давно, потому что я готовился к этому маршруту аж с осени. Надо подтвердить эту информацию, а то вдруг он уже переехал, например.
Я.К.: У тебя такой плотный график посещения городов, это 3−4 дня, ближе к Владивостоку 5 дней. Ты успеваешь за это время почувствовать ритм города, людей, какие-то характеры выявить?
А.Ф.: Я не могу сказать, что узнаю город досконально, но особенности и атмосферу — определенно. На самом деле, достаточно даже одного дня, если ты его проводишь в прогулках по городу или в общении с разными людьми одновременно, у меня как у выступающего человека это получается прекрасно. Я не могу сказать, что узнаю город досконально и могу краеведческую экскурсию провести, нет. Но у меня и цели такой нет. Я приезжаю пообщаться с конкретными людьми. И если с этими людьми заводим такую дружбу, что я потом про них могу рассказать, чем они прекрасны, это уже хорошо. Но бывает, что я могу сделать какой-то вывод, сравнить, особенность вывести. Просто у меня есть такая вещь, которую я больше всего в жизни ненавижу. Эта вещь называется обобщение. Я терпеть не могу обобщать. Я всегда за частные случаи, за конкретности. Поэтому, даже если я год в городе проживу, делать такой вывод, что это прекрасный город или ужасный город или этот город славится тем-то и тем-то, я не люблю. Если я выявлю какую-то закономерность, то я буду о ней говорить, но буду и подчеркивать, что это именно то, как я это увидел, это не факт, а то, как лично мне показалось за те три дня, которые я там был. Например, в Курске у меня получилось очень классно затусить, скажем так, очень много времени в нем провести. Я в какой-то момент почувствовал, что я весь город вдоль и поперек обошел. Меня тогда отдельно пригласили, после моего визита в рамках «Авторстопа», пригласили поучаствовать в журналистском форуме и в фестивале короткометражного кино. В общем, я там очень классно провел время. И вот дней за 10 мне показалось, что я все узнал. И вот если бы я не общался с очень большим количеством классных, творческих, заинтересованных людей, с энтузиазмом в глазах, если бы я просто прошелся по городу, внешне его изучив, я бы сделал вывод, что куряне не занимаются ничем, кроме того, что стаптывают ботинки, бегая с бодуна за лекарствами. Потому что встречаешься в основном три вида заведений — «Живое пиво», «Аптечный пункт» и «Ремонт обуви». Кстати, на окраине города есть прекрасный район, который в народе называется «Колобок». Раньше там было кафе «Колобок», в честь него назвали автобусную остановку, а в честь нее назвали целый микрорайон. Поэтому на маршрутках можно увидеть потрясающую надпись — «Колобок по Дружбе»: еду до микрорайона «Колобок» по проспекту Дружбы. Это меня очень умилило. Еще в этом городе я увидел другую вывеску, которую больше не видел нигде. Там было написано «Реставрация подушек». Я очень долго думал, как это происходит: человек пинцетом перебирает перышки, перешивает. Почему именно подушки, почему не что-то другое? Вот что меня интересует в городе, и мне нравится, когда подобные истории у меня есть — одна, две пять, десять, про человека, про место, про вывеску, про атмосферу. Но утверждать, что я знаю город, я не могу. Да и не знаю, кто может. Сами жители города не знают. Очень часто бывает, что человек живет в городе 20 лет, 30 лет, и он знает меньше, чем я, посетивший город на три дня. Потому что я иду, у меня голова вертится на 360 градусов, я смотрю наверх, по сторонам и под ноги. А человек, который здесь живет, просто занимается своим делом и по сторонам не смотрит. Было такое, что я открывал глаза жителям на их собственный город. Но проблема в том, что у меня есть свой интерес. Вот этот самый концептуальный вандализм не всегда выражается в надписях или граффити, бывают просто такие моменты, которые меня удивляют — как так произошло? И иногда мне кажется, что я жителю города глаза открыл, он этого не видел никогда, но ему-то все равно, не видел и не видел. А для меня это каждый раз маленькая радость, что как же это мило, я начинаю звуки издавать всякие разные. В радиоэфире не заметно, что я лысый, бородатый, здоровый мужик.
Я.К.: Ты рассказал про Курск. А в каких еще городах что-то такое цепляло?
А.Ф.: Это проще в интернете найти паблик мой, листать и рассказывать о конкретных моментах по фотографиям, по видеозаписям. Я побывал уже более чем в трех десятках городов. Иногда бывают ситуации, связанные с людьми. В Туле была странная история. Наверное, из-за своих литературных замашек я люблю, когда люди умеют иронизировать, люблю ироничные, экзистенциальные фразы, ситуации. В Туле я вписывался у мужика, так его буду называть. Он рабочей специальности, не связан с творческой средой. Я понял, что мы найдем с ним общий язык, когда увидел его статус «Вконтакте». Это немного пошло, но я все равно расскажу, потому что меня очень порадовало. Он сейчас занимается натяжными потолками, а раньше занимался вставлением стеклопакетов. Его статус «Вконтакте»: «Натягиваю. Раньше вставлял». Меня это очень порадовало, я понял, что мы подружимся с этим человеком обязательно. К тому, что может в городе произойти, когда я в нем два дня присутствую. Когда мы с ним познакомились, я поучаствовал в похоронах. Меня отвезли в храм, где я помогал нести гроб на отпевание. Это было очень странно, потому что это был первый город моего маршрута, второй день путешествия моего — и я несу гроб. Это было в прошлом году, и у этого мужчины в тот момент жена лежала в роддоме на сохранении, они только выяснили, что беременны. Спустя восемь месяцев он позвал меня снова в гости, праздновать рождение его первого ребенка. Я был единственным, кто был в тот момент рядом, когда ему звонила его жена сообщить, что их теперь трое. А мы ведь совершенно случайно познакомились. Он звал друзей, но у них там была работа, дела, они сказали, что придут, когда жена выпишется. Теперь я шучу, что в Туле люди только рождаются и умирают, потому что первый раз я участвовал в похоронах, а во второй — в родах, скажем так. Вот они, мои ассоциации. Это же далеко от истины, правильно? Но это мои истории. А если говорить о городской среде, то мне сходу вспоминается надпись на стене в Воронеже. Там было потрясающее граффити, огромное, наверное, сделанное по городскому заказу: космос, ракеты, Гагарин, все очень ярко и красочно. И под ним надпись, выполненная тоже очень красивым шрифтом: «Жизнь — не любовь и Бог, а страдание и Воронеж». Эта надпись меня очень порадовала. Такая самоирония провинциального города, хотел сказать, хотя Воронеж — это уже маленькая Москва, его даже провинциальным и не назовешь.
Я.К.: Сейчас ты уже в четвертом городе твоего путешествия, во Владимире. Что за это время уже успело приключиться?
А.Ф.: Так сходу и не перечислишь. Я в каждом городе по четыре ночи. Я думал, что мне нужно будет несколько вариантов вписок, потому что я буду надоедать людям или люди надоедят мне, и нужно будет бегать со вписки на вписку, чтобы четыре ночи не проводить в одном месте. Пока получается так, что во всех трех городах я все четыре ночи проводил в одном месте, это значит, что максимально гостеприимные, душевные, клевые люди меня вписывали. Мне не хотелось уезжать ни из Ярославля, ни из Костромы, ни из Иваново. Но я просто знаю, что дальше тоже все круто будет, у меня график, нельзя сбиваться, иначе пострадает какой-то другой город. Все потом будет в моем бложике, а то, чего не будет в бложике, будет на моих вечерах в виде каких-то стендапчиков. Я стараюсь запоминать. Проблема моя в том, что я очень полагаюсь на память. Со мной происходит что-то классное, крутая фраза, крутые люди, крутые истории, крутые места, и я все время думаю: уж это я не забуду, уж это я точно запомню. И если я это не зафиксирую ни на фото, ни на видео, ни в виде текстов, я забуду 80%. Меня это очень тревожит и пугает.
Я.К.: Это у многих так.
А.Ф.: Я надеюсь. Иначе это очень грустно. Потому что остается только скелетик. Я запоминаю какие-то основные вещи, а это очень грустно. Поэтому надо тратить время на то, чтобы все записывать, а времени катастрофически не хватает, потому что кругом движуха, люди, общение, хочется идти вперед и что-то новое узнавать, а времени запечатлеть старое не хватает. Надо, видимо, какие-то паузы делать. Я это называю выхлоп — от чего-то, что я впитал и что хочу потом дать в виде блога, выступления или стихов. Может, я когда-то до прозы дорасту. Я кино собирался снять, не видеоблог, а фильм. Но понял, что это не мой формат, я камеру включаю в отдельные моменты, нет хронологии, слаженности у этого, сумбур.
Я.К.: Твое понимание мира чаще через слово идет. Как с этим сложилось?
А.Ф.: Немного сейчас лирическое отступление. Во Владимире у меня сейчас такая ситуация, максимально связанная со словом. Я очень неожиданно для себя вписался во Владимире у эквадорского скульптора. Он из Эквадора. Сутки примерно я провел во Владимире, и у меня все сейчас связано со словом, потому что у меня лингвистическое образование, передо мной иностранец, и он говорит по-русски, родной язык у него испанский, а английский, на котором я говорю свободно, он знает плохо. А я испанский совершенно не знаю. Сейчас мы с ним разговариваем на серьезные, глубокие темы, потому что он скульптор, он рассказывает о своем творчестве, пытается объяснить его глубинный смысл на русском языке. И это довольно сложно. Но мы находим общий язык, сутки уже прообщались, и это было очень весело. Я в России ни разу не вписывался у иностранцев, для меня сейчас это уникальная ситуация, Владимир выделился. А в целом, да, для меня важны формулировки, я не знаю, с чем это связано. То ли это мое лингвистическое образование, то ли изначально было заложено, то ли какие-то творческие амбиции, не восполненные пока что. Я себя где-то называл прозаиком, который пока что не пишет прозу. Мне бы очень хотелось. Но мне, наверное, не хватит таланта или усердия, чтобы написать книга в третьем лице о каких-то выдуманных персонажах. Я всегда думал о какой-то полуавтобиографической книге от первого лица, о реальных людях, реальных событиях, что-то близкое к стилистике Сергея Донатовича Довлатова. Только у него не было непосредственно о путешествиях, он в них пребывал по долгу службы, в «Заповеднике» он в Псковской области работал или в «Компромиссе» он работал в Таллине, в газете.
Я.К.: Довлатов тоже не был писателем, а рассказчиком, он себя так называл.
А.Ф.: Себя он называл рядовым литератором. Он говорил: «Я попросил у Бога, чтобы он сделал меня рядовым литератором. И когда я им стал, я понял, что претендую на большее. А у Бога добавки не просят». Может быть, я так же себя ощущаю. Я говорю о себе всегда скромненько — мальчик с окраины Москвы, я каким-то пафосом и высокомерием не обладаю, как мне кажется. Возможно, я мог бы делать что-то большее, чем делаю сейчас. Но я не хочу сейчас об этом думать, потому что меня устраивает. У меня было по 35 примерно зрителей в трех городах, я не знаю, сколько будет сегодня во Владимире. Теперь, наверно, в каждом городе будет все меньше и меньше, потому что я не того уровня выступающий человек, чтобы зрители сами бежали ко мне со всех ног, и мне приходится проводить какую-то работу. Проводить ее дома, сидя в интернете, было гораздо удобнее, чем сейчас в путешествии. Поэтому не знаю, что будет дальше.
Я.К.: У меня вопрос такой: кто тебе чаще всего помогает с организацией концертов, с жильем, какие есть особенности общие между этими людьми?
А.Ф.: Я помню, что после первого своего большого путешествия я пытался сделать список выводов. Один из выводов — нельзя проводить никакую статистику. Путешествие не поддается статистике. Как только ты сделаешь какой-то вывод, например, меня обычно не подвозят женщины, потому что боятся лысых бородатых мужиков, как тут же хоп! — и меня везет молодая девушка, которая не побоялась посадить меня к себе в машину. Это всегда разные люди. Я вписывался как у творческих ребят, так и у далеких от этих дел, как у мужчин, так и у женщин, как у совсем молодых, младше меня, так и у людей старше. Это скорее зависит от уровня владения соцсетями, если сузить до какого-то бытового момента. Потому что основной инструмент мой сейчас — это социальная сеть, причем одна. Я же сейчас всем занимаюсь один в основном, мне нужно организовать 40 мероприятий в 40 городах, найти каких-то инфопартнеров, движушных ребят, потенциальных зрителей. Если я это буду делать во многих социальных сетях, я просто помру на месте. Поэтому все зависит от того, есть ли человек «Вконтакте» и могу ли я на него выйти. Это может быть кто угодно, поэтому я не знаю, как тут сузить и обобщить.
Я.К.: Сколько человек в среднем приходит на твой концерт?
А.Ф.: Ну, вот в предыдущих трех городах было 35. И меня это устраивает, потому что 35 человек — это полный класс, у меня же педагогическое образование. Я стою, и вот они, 35 детишек. Это, конечно, ирония, потому что я не наставник и нет такого, что все сидят и на меня смотрят. Мы выходим оттуда друзьями-приятелями, это легко можно увидеть на моей стене «Вконтакте», где есть репосты моих зрителей, мне это приятно, интересно и лестно. Можно увидеть, как мы там фоткаемся, обнимаемся, целуемся, и у нас все прекрасно после мероприятия. Редко я сталкивался с ситуациями, когда вызывался какой-то негатив. Была ситуация, но я понимал, почему так. Во время последнего стихотворения у меня два зрителя уходили с мероприятия. Дверь была за моей спиной, они мимо меня шли, и я говорю: «Ребят, ну три минуты осталось, самое крутое стихотворение в конце». Они мне сказали: «Лучше б ты рэпчик читал». Я потом узнал, что случилось. Это были мальчик с девочкой, и девочка уронила графин, по-моему, в этом кафе, разбила, мальчику пришлось платить за него, и я понимаю, что настроения слушать стихи уже не было. У меня тоже была ситуация в том же Курске, когда мы уронили кальян, что-то прожгли. И я сижу уже в другом городе с хорошими людьми, и тут выясняется, что я кому-то должен какие-то тысячи рублей за то, что люди не предусматривают малейшую технику безопасности, потому что не должно быть кальяна на ковре. Я это настроение прекрасно понимаю и не думаю, что это было связано со мной и моим творчеством. Если человек не ханжа, то я не представляю, как ему может не понравиться мой вечер. У меня проблема посадить человека в зрительный зал, потому что я не Джастин Тимберлейк, как я говорю, и не Михаил Задорнов. Я какой-то там мальчик из какой-то там Москвы, там таких, наверно, много. Поэтому моя проблема — убедить прийти, сесть и начать слушать. А когда человек уже пришел, то все прекрасно, нам весело, потому что у меня микс поэзии и стендапа, есть контрасты. Бывает, что я слезы вызываю у человека, я к этому не привык. Я понимаю, что для поэзии это, может, и нормально — драматизм и уныние, но мне это не свойственно. Поэтому когда это выходит, я всегда в шоке, стою и думаю, как же продолжать мероприятие. А так, чаще всего все весело, задорно, общаемся.
Я.К.: Что тебя чаще всего вдохновляет на твою поэзию? Бывают такие моменты, когда раз — и пошло?
А.Ф.: Мне кажется, это всегда связано со словом опять же. Я не могу сказать, что меня вдохновляет погода за окном или любовь, романтика, обычно в это у поэтов все упирается. Наверное, я цепляюсь за интересные мне образы. Например, я услышу какое-нибудь словосочетание и думаю: это ж глубокий смысл здесь заложен! Целиком не буду цитировать, просто образ из четверостишия, который мне очень понравился, который я для себя придумал: безрукий армрестлер. Вот я придумал такое словосочетание, а потом понял — это же офигеть какой глубокий смысл! Человек, пытающийся реализовать свою спортивную амбицию, но который априори этого не может. Это образ я придумал, и у меня родилось стихотворение на эту тему. Не очень длинное, но для меня это целое произведение.
Я.К.: А почитай немножко.
А.Ф.: Это четверостишие.
Я сижу в своем сломанном кресле,
Завышая на жизнь себе планку,
Как влезает безрукий армрестлер
На фригидную нимфоманку.
Я.К.: Да, глубоко! *смеется*
А.Ф.: Это родилось от одного образа оксюморонного, скажем так, сочетание несочетаемого.
Я.К.: А еще где вдохновение берешь? В основном это образы, символы, как я понимаю. Может быть, еще люди?
А.Ф.: Когда я начал путешествовать, я думал, что как начну сейчас писать стихи обо всем этом — о людях, о местах, о городах. Но в итоге я понял, что все, что происходит со мной, — это настолько тонкая материя, что совсем не хочется это все рифмовать, ритмовать. Это пока остается в виде стендапчиков, а потом, я надеюсь, прозы. Поэтому я не могу сказать, что люди меня вдохновляют на поэтическое творчество. Я цепляюсь за фразы, чаще за ироничные, но они для меня становятся крутыми элементами прозы. Я сразу думаю, куда бы это вставить, в какую историю, в какой элемент прозы. Я вот вчера извинялся перед эквадорским скульптором, что пришел с пустыми руками. Я говорю: «Извини, я пришел с пустыми руками». Он мне на это: «А! Ванная там!». Услышал слово «руки», но не понял, что я имею ввиду. Вот он, диалог. Двухсекундная ситуация, поржали и двинулись дальше. А меня она радует, мне она греет душу.
Я.К.: Потому что ты — истинный филолог.
А.Ф.: Наверное, есть более грубые слова, как меня обозвать можно, я не буду в эфире.
Я.К.: Расскажи об определенном этапе твоей жизни — о проекте «Бабушка Пушкина», в котором ты участвовал.
А.Ф.: Был такой поэтический телепроект на канале «Москва-24», «Шоу о молодых поэтах» мы назывались. Было несколько сезонов, первые три были интернет-проектами, а четвертый, в который я попал, стал телепроектом. После того, как я в него попал и занял третье место, шоу закрылось. Все. Планировалось увеличивать масштабы, мы собирались выходить на канал «Россия», пятый сезон предполагался всероссийским, масштабным. Но не сложилось. Я туда попал довольно случайно, на тот момент, когда я начал выступать со стихами, это был финал третьего сезона, и мне все казалось таким пафосным, все такие тут звезды, что-то запредельное делают. Не могу сказать, что мне это очень понравилось, потому что у меня другой взгляд на поэзию, я люблю лаконичность, прямолинейность, самоиронию, а там все сквозило какой-то размазанностью, обобщенностью и растеканием мысли по древу. Мой приятель меня позвал на кастинг, я пришел с мыслью, что никому я тут не понравлюсь и спокойной пойду домой. Но они сказали потрясающую фразу: «Ну, разбавишь их всех». И меня взяли с этой формулировкой. Уж эту функцию у меня получалось выполнять, потому что я довольно прямолинейно всегда говорил, но с неожиданного ракурса. Я говорил не метафорическим языком, а по-человечески, просто рифмуя. Даже не знаю, что рассказать про это шоу. Какой-то конкретный вопрос есть про него?
Я.К.: Как я понимаю, там вам давалась тема, давалось время, и каждый участник должен был написать произведение?
А.Ф.: Да, суть была именно такая. Я сначала думал об этом как о чем-то продажном, лицемерном, как можно писать стихи на заказ, это же будет неестественно и не про тебя. А оказалось, что это очень легко, потому что какую бы тему тебе ни дали, ты ее будешь обыгрывать со своей колокольни. Это все равно личная для тебя история получится. Так у меня и вышло. Были пара раундов, в которых у меня не получилось от себя что-то сказать. Был, например, раунд «Кино». Мне достался один из моих любимых фильмов «Любовь и голуби», и я написал стихотворение, которое, по сути, фильм пересказывает, наверное. Оно мне не нравится, я его не читаю. Мне кажется, в стихотворении важна авторская позиция, чтобы было понятно, зачем я это читал, и не возникало вопроса «и че?». Должна быть какая-то эмоция выражена или какая-то мысль высказана. Я люблю абсурдные, смешные стихи, но когда человек смеется, у него не возникнет вопрос «и че?». А в этом случае ты от себя ничего не сказал, смешного ничего не сказал, мысль не высказал, зачем это нужно? Такие стихи там были. Но были и те, которыми я сейчас горжусь, которые составляют определенный пласт моего творчества, спасибо этому шоу, что оно дало мне такой толчок. Хотя, наверное, я благодарен за некоторых людей, которых там встретил. Я сейчас дружу со многими ребятами оттуда. Правда, и нехороших людей я там встретил, но немного, и это тоже опыт.
Я.К.: Какую цель для себя ты ставишь, когда выступаешь перед аудиторией?
А.Ф.: Мне нравится видеть улыбки и смех, это во мне есть. Возможно, из меня получился бы хороший клоун, например. Но есть во мне и литературные замашки, поэтому клоуна из меня не вышло. Но мне нравится видеть, как я вызываю смех и улыбки. Это одна из основных целей и критериев — хорошо прошел вечер или нет. Поэтому я не понимаю, как поэты на своих поэтических вечерах могут определить, хорошо прошел вечер или нет. Если никто не смеялся и никто не плакал, а просто слушали и аплодировали, даже с понимающими глазами и навостренными ушами, я не очень понимаю, как он оценивает, хорошо прошел вечер или нет? Меня вот есть четкий критерий. Это и есть высшая цель. А так целей много. Я, например, всегда хочу выйти из помещения друзьями со всеми этими людьми. Хочу поделиться творчеством. Ну, а вообще, когда речь заходит о творчестве, об искусстве каком-то, вопрос «зачем?» сразу отпадает. Зачем нужно искусство? У тебя есть ответ на этот вопрос?
Я.К.: Наверное, чтобы развивать чувства.
А.Ф.: Получается некий оксюморон: глагол «развивать», который связан скорее с мозгом, с интеллектом, а потом ты добавляешь «чувства». Это сложное понятие. А зачем развивать чувства? Этот вопрос можно задавать и дальше. Наверное, мы упремся в то, что мы люди, а не животные, у нас есть эстетика какая-то, творческие амбиции, мы хотим что-то писать, лепить, снимать. Наверное, это хорошо и прекрасно, а иначе мы бы только кушали и спаривались.
Я.К.: У нас остается немного времени. Почитай что-нибудь нашим радиослушателям напоследок.
А.Ф.: Я прочитаю одно стихотворение, но длинное. Оно называется «Жертва образования, или Простите, математики, но»:
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов —
и ведь был же когда-то где-то кто-то, кому было не лень считать это. В
школе мы потратили уйму времени, чтобы всё это изучить,
в тот самый блаженный период, когда у девочек уже растёт, у мальчиков торчит и зудит.
Пятый этаж. Тридцатый кабинет.
Рядом с библиотекой,
где работала мама.
(За те десять лет
я почти стал калекой,
вечно таская там горы хлама.)
Идёт урок математики.
Идиот. Урод. Маразматики.
Слева — совсем дебилы.
Соседка по парте справа — милая
девочка Аня.
Алгебраичка — в первую очередь, женщина и только потом уже изверг образования.
Слово «синусоида» вызывает лёгкий смех.
«Многочлен» — вероятно, один из Людей Икс.
«Интеграл» — вообще прошедшего времени глагол.
Пройдёт ещё лет пять-шесть, прежде чем замятинские «Мы» поведают, что это за фрукт такой.
Пройдёт ещё лет пять-шесть, прежде чем поймёшь, что ни разу в жизни ещё не воспользовался тригонометрией
и вряд ли сделаешь это в ближайшее время.
Не знаю, случайно так вышло или намеренно,
но нас обучали совсем не тем наукам.
Ребятки теперь в двадцать лет сидят по айпадам и ноутбукам,
увлечённые исключительно собственным «луком».
Система образования с ними злую шутку сыграла —
лучшие годы жизни потрачены на изучение интеграла.
А необходимых полёта фантазии, искры творчества,
общения, экспериментов, опыта,
желания продать свою двушку в Отрадном,
чтоб сгонять до Луны и обратно;
на ундервуде сбацать такое соло,
или хотя бы на укулеле,
чтобы забыли его нескоро,
чтоб от восторга все о**ели;
не быть равнодушным
и сдать литров крови столько,
чтобы хватило всем, кому нужно.
В общем, в поисках смысла тяги стремиться вдаль —
не прибавилось ни на грамм. Никто им её не дал.
Вот и выходит, что после школы, а часто и после университета,
в мозгу не остаётся ни то, ни это —
ни полезное, ни даже бесполезное.
А потом ведь сами себе соболезнуют
по случаю столь бессмысленной кончины молодости.
Поколение постарше сетует,
что в тринадцать теперь всё все умеют.
Распустилась, мол, молодёжь.
Кричать, что всё это ложь
я не буду. Я, может, секрет вам открою,
но лично я уже не в первой наблюдаю другое —
девочка в двадцать один год
даже не знает, как правильно целоваться в рот.
А разве не это одна из важнейших в жизни наук?
Я всему тебя научу, малыш, — я не зря поступал в педвуз.
Ты просто скажи себе: «Я ничего не стесняюсь, и я ничего не боюсь».
Мы посмотрим с тобой все фильмы и после — снимем свой.
Я напишу очень умную книгу, напишу для тебя одной.
Мы вместе остановим все войны,
твоим супом накормим голодных
и уедем жить к эскимосам или в Денвер, штат Колорадо.
Чтобы ты поняла, что только вот так и надо.
И была со мной рядом.
Голенькой.
Мне сил придаст вид твоего равнобедренного треугольника.
Ха! Гляди-ка! Метафора в стихотворении!
Ну, хоть на что-то сгодилась тригонометрия.
Я.К.: Круто! Даже не знаю, что добавить после этого. Скажи, о чем ты еще мечтаешь?
А.Ф.: Это такой вопрос сложный. Мечты… Я мечтаю о том, чтобы ощущать себя счастливым человеком. Потому что ни один человек, который отправляется в путь, не делает этого, потому что думает: «О-о-о, путь, это так классно!». Я думаю, люди делают это от некой неприкаянности и незнания, а что делать еще. Это самообман: я при деле и я счастлив. Но моя формулировка такова: если бы я этого не делал, я был бы несчастным человеком, абсолютно. А я делаю, и это помогает мне держаться на плаву. А мечта — наверное, подуспокоиться, чтобы появилась какая-то стабильность, устраивающая меня, чтобы я мог чувствовать себя счастливым человеком, довольным своим существованием, чтобы не искать все время какой-то новый смысл.
Я.К.: Спасибо, на этом попрощаемся. Услышимся!









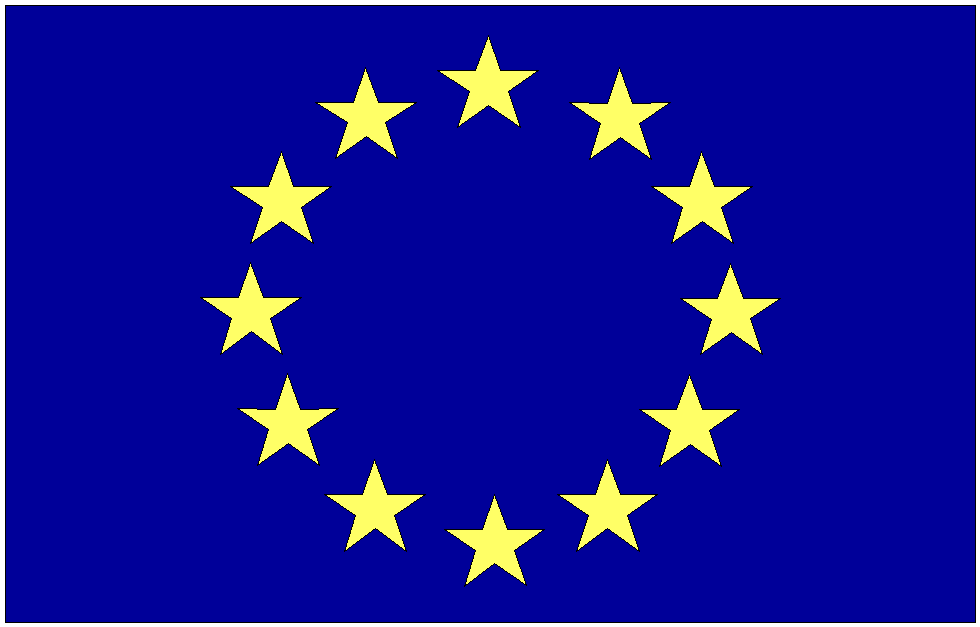 При поддержке Европейского Союза
При поддержке Европейского Союза
